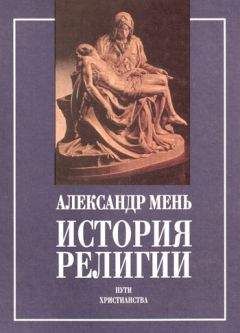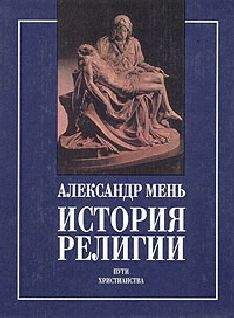Ягвистический бытописатель был одним из этих апостолов Ветхого Завета. Обращаясь к своим современникам, он говорил с ними на языке, понятном самым широким кругам. Он нес им возвышенную истину, но «словесная плоть» его повествования была, по выражению известного православного богослова, «только скромным повторением праотеческих колыбельных сказаний первобытного человечества» [566]. Это создает уникальную многоплановость и многогранность Книги Бытия. Среди страниц, написанных человеческой рукой, едва ли можно где-нибудь еще встретить такое изумительное сочетание «народной» формы с глубоким духовным смыслом. Правы поэтому те, кто называет Бытие книгой и для младенцев, и для мудрецов.
Ягвист пользуется языком народной саги, преломляет древние мифы Шумера и Вавилона, но всюду проводит свою особую мысль. Он подобен строителям Соломонова храма, которые, пользуясь иноземными средствами и иноземными материалами, создали святилище Единому Богу. В сложное переходное время, когда Израиль вступил в новую эпоху существования, когда пришел для него час оглянуться назад, осмыслить свое прошлое и свое религиозное призвание, библейский мудрец воздвигает перед ним как икону свою Историю, где говорит о Боге и человеке, добре и зле, о вере и измене Богу, о страданиях и спасении. Эта священная книга Завета и Обетования давала ответы на важнейшие вопросы, она указывала путь через рассмотрение прошлого. Язык ее был образным, живым, картины написаны свежими, сочными красками, ее легко мог понять всякий. Она смогла пережить тридцать веков, и в наши дни мы чувствуем очарование ее величавых и таинственных страниц, будящих воображение подобно старым монументальным фрескам.
Многие поколения художников и поэтов вдохновлялись библейской мистерией и пытались воплотить видения Ягвиста. Первый братоубийца и потоп, башня и странствования патриархов возникали вновь и вновь в произведениях Рафаэля и Микеланджело, на стенах древнерусских соборов и на полотнах Рембрандта, в строках Данте, Байрона, Мильтона.
* * *
Священная История для ягвиста — это драма, разыгрывающаяся между небом и землей, между Богом и человеком. Истории народа Божия он предпосылает Пролог, в котором говорит о завязке мировой драмы. В Прологе он не изображает событий внешнеисторических и поэтому принужден обращаться к языку мифа. Значит ли это, что он подменил реальность вымыслом? Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть само понятие «мифа».
Миф следует отличать от легенды, хотя обычно эти два понятия смешивают. Легенда есть узорно расшитая оболочка, в которой память народа хранит воспоминание о действительно бывших событиях. Сказания греков о Троянской войне и еврейские сказания о патриархах — яркие примеры легенд. Прежде к легендам относились с излишним скептицизмом. Археология показала, что они почти всегда содержат историческую основу. Достаточно привести пример раскопок Трои или Миносского дворца.
Миф — это тот язык, на котором древний человек говорит о самом важном для себя. Древние евреи не создавали абстрактных схем, они мыслили картинами, образами, они прибегали к мифотворчеству. Миф — это «недифференцированное единство религии, поэзии, науки, этики, философии» [567]. То, что открывалось внутреннему взору человека, он выражал в пластической символике мифа. Часто случалось, что исторический факт, став легендой, превращался в миф. Но тогда он обретал уже новое бытие не просто в качестве воспоминания о прошлом, а как образ непреходящей истины. Таким мифом стал Исход из Египта. Историческое событие было для Израиля подлинным Богоявлением. Поэтому Исход превратился во вневременной символ праздника Пасхи, в знак непрекращающегося действия Промысла в жизни народа.
«Не человек создает миф, — говорил о. С. Булгаков, — но миф высказывается через человека» [568]. Это не парадокс. В мифе, действительно, усматривается облик подлинного тайноведения. И это относится не только к вершинам Откровения, но и ко всякому духовному постижению. Полнота сокровенной реальности не может вместиться в прокрустово ложе сухих отвлеченностей и интеллектуальных схем. Поэтому, как справедливо утверждает Н. Бердяев, «язык духовного опыта есть неизбежно символический и мифологический язык, и в нем всегда говорится о событиях, о встречах, о судьбе» [569]. Миф не есть форма только древнего мышления. Он и поныне присутствует во всякой действенной религии и живой философии. Во всех философских системах основная, первичная интуиция мыслителя выражена в своеобразном мифе. Отличие древнего мифа от нового заключается лишь в материале, из которого он складывается. Если в новый миф входит опыт современной души, то древний облекается в декоративные формы сказания, столь близкого и понятного людям тех эпох.
Даже тогда, когда библейский миф говорит о каких-то исторических событиях, он не есть история в прямом смысле этого слова. Его можно назвать олицетворенной метаисторией, картиной, выражающей вдохновенное видение смысла вещей.
Но если миф не есть история, его тем не менее нельзя считать вымыслом. Те, кто думает так, повторяя вслед за Смердяковым: «Про неправду все написано», доказывают лишь свою неспособность приподнять пестрый покров сказания, чтобы увидеть его глубинный смысл. Миф греков о Прометее, индийцев о Пуруше, персов о борьбе Ормузда и Аримана — это не просто плоды фантазии, а великие мифы человечества, воплощающие религиозное постижение и мудрость народов.
В свое время говорили, что Израиль не создал мифов. Для одних это было свидетельством высоты его религиозного сознания, для других — доказательством творческой бедности народа. На самом же деле Библия свободна лишь от вульгарной мифологии, которая есть проекция в сферу мифа человеческих пороков и страстей; но миф в высоком смысле слова, миф-икона и миф-символ, составляет самую основу Ветхого Завета. Творение мира, Завет с Богом, Исход, День Ягве, Царство Мессии — все это боговдохновенные мифологемы, заключающие в себе истины Откровения.
* * *
Ягвист, как мы говорили, продолжатель дела Моисея. Он проповедует Бога, Который открылся пророку на Синае и некогда явился Аврааму. Живя в среде народа, который заимствовал у соседей все: от алфавита до земледелия, он твердо держится Моисеева наследия — веры в Единого Бога. Это Бог непостижимый в своем величии и в то же время близкий к человеку. Он знает все, что совершается в сердцах людей, и постоянно входит в их жизнь, иногда незримо, а порой и зримо, в виде Малеаха-Вестника (Ангела). Он есть живая Личность в противоположность Высшему Божеству или Началу внебиблейских религий.
«Язычники, — говорит Д. Райт, — мыслили творение в терминах борьбы между различными силами природы и Мировым порядком, как достижение гармонии среди многообразия. Но что привело природу в порядок и установило гармонию с божественной волей? Верили, что некий принцип Порядка был установлен в творении, и ему были подвластны даже боги. Греки называли этот принцип Мойрой — роком, необходимостью, что вполне соответствовало его характеру. Египтяне говорили о нем как о Маат — слово, обычно переводимое как Правда и Истина, — но она же была и космической силой гармонии, порядка, равновесия, вечно нисходящей в творение… В Месопотамии слова Парсу и Шимту, кажется, означали процессы одинаковой важности. Парсу — нечто более могущественное, чем боги, всемирный закон, без которого не было бы богов. Человечество имеет Шимту или Судьбу — предопределение, данное ему в начале его бытия.
Эта концепция сохранилась через греческую философию в некоторых формах современного детерминизма, т. е. признания некоторого порядка, установленного во Вселенной, который делает вещи тем, что они есть. Согласно современному марксизму, мир рождается в борьбе противоположностей и конфликтов классового общества: это движение происходит в силу известных законов, которые движут мир этим путем.
Фактически большинство нехристианских философий верит в некий рациональный принцип во Вселенной, объясняющий ее порядок и движение. Одной из причин, почему были так популярны религии мистерий в греко-римскую эпоху, было то, что они обещали освобождение от всевластия Рока. Христианство тоже обещало освобождение от греха и сил тьмы. Для библейского учения не существовало веры в какой-то принцип мирового порядка, как не было в нем и ничего похожего на вавилонскую Шимту или человеческий детерминизм. Вверение себя Богу Библия понимает как новое осознание личности, как ее проблему и утверждение ее значения в этом мире» [570].
Бог-Промыслитель, Бог, требующий правды, Бог, верный данному Им обетованию, — таков Бог Библии, о котором говорит Ягвист. Для этого Бога человек — возлюбленное дитя.