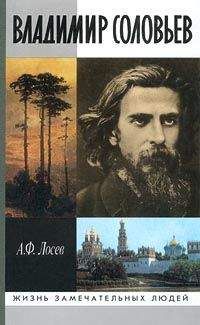Впрочем, если иметь в виду духовную ситуацию, царившую в сознании Вл. Соловьева в последние годы его жизни, то это мучительный вопрос. Можно сказать только то, что для объективного историка тут нет ничего необыкновенного. Историк всегда сталкивается с такими фактами, в которых самым причудливым образом спутаны времена, прошлое и будущее, так что подобного рода путаница часто заставляет историка просто разводить руками.
Решительная и убежденная критика Вл. Соловьевым не только церкви, но и государства, под опеку которого церковь попала, свидетельствует о полном крахе того философского классического благополучия, которым характеризовалась его теоретическая философия. Его беспощадная и убийственная критика византийско–московского православия достигает прямо степени какого‑то натурализма и разоблачительства, если иметь в виду корыстолюбивые и даже просто низкие стороны в деятельности византийских властителей. Это уже не классика философии, но философия вполне натуралистическая.
Далее, однако, с той же восторженностью Вл. Соловьев проповедует в те времена победу христианской идеи в будущем, когда все человечество сольется в единую и нераздельную, уже вселенскую церковь. Этот образ мыслей опять‑таки не есть классика, но какая‑то романтика, вернее же сказать, романтический утопизм. В соединении с указанным у нас соловьевским натурализмом мы должны констатировать здесь весьма своеобразный романтически–натуралистический утопизм вместе с индифферентным отношением к противоречивости путей, ведущих к исповедуемой философом вселенской утопии.
Кроме того, с исторической точки зрения эта противоречивость делается понятной еще и потому, что она возникла всего за несколько лет до мировых катастроф XX века. Вл. Соловьев не мог изображать тех событий, которых он не переживал. Но, несомненно, их острое предчувствие сыграло свою огромную роль во всем этом соловьевском романтически–натуралистическом утопизме в соединении с вероучительными противоречиями, разрешить которые, вероятно, и самому‑то ему было не под силу. С одной стороны, он, и притом с начала до конца, был одержим пафосом универсализма. Ему хотелось, чтобы универсальная церковь была тут же, сию же минуту. С другой стороны, однако, окружающая его действительность являла собою черты небывалого культурно–исторического развала, культурно–исторического безвременья и полной религиозно–философской неудовлетворенности. Соединение этих двух стихий, патетического универсализма и интенсивно прогрессировавшего индивидуализма, уже давно переставшего бояться каких‑либо катастроф, именно это соединение и объясняет, по–видимому, мучительную противоречивость как его вероисповедных исканий, так и его общей теории торжествующей вселенской церкви.
Вопрос о конфессиональных исканиях Вл. Соловьева — вопрос очень трудный, и он едва ли в настоящее время может получить какое‑либо однозначное решение. Самое большее, что мы можем сейчас сделать, — это не отбрасывать в сторону все кричаще противоречивые моменты этого соловьевского конфессионального сознания и попробовать если не обнять их в общей системе, то по крайней мере не игнорировать, а бесстрашно формулировать эти противоречия.
Необходимо иметь в виду, что противоречия и разнобой в мировоззрении Вл. Соловьева характеризуют не только его конфессиональные взгляды. Ввиду чрезвычайного универсализма, энтузиазма и глубокой связанности с разного рода философскими и религиозно–философскими областями его вообще очень трудно причислить к тому или иному направлению в школе тогдашней мысли. И это, пожалуй, было не столько отрицательной, сколько положительной направленностью его взглядов. По крайней мере, его ближайший друг В. Л. Величко пишет на эту тему так:
«Боевая сторона его деятельности имеет большой психологический интерес, так как рисует нам новые стороны его личности, привлекательные даже в ошибках, а вместе с тем, как сильный реактив, обнаруживает вокруг Соловьева невероятную путаницу понятий, замечаемую даже в наиболее образованной части нашего общества, которое не сумело отличить коренное от производного, большого от малого. Мне кажется, что именно яркость публицистического таланта Соловьева повредила цельности впечатления от его творческой личности: она настолько подействовала на нервы общества и критики, что крупный масштаб, приложимый к мыслителю, был перепутан с масштабом гораздо меньшим, применимым к публицистическим вопросам. Если б у Владимира Соловьева было основным учением славянофильство, или западничество, или материализм, или вообще чтонибудь сравнительно узкое, то переход от одного учения к другому мог бы быть назван изменой (особенно в случае неполной искренности). Но на деле он был с первых и до последних дней своих верен всеобъемлющему идеалу абсолютного единства‚ началу неизмеримо высшему‚ к которому все это относилось, как малые ветви, шумно гнущиеся по ветру событий, относятся к незыблемому, прямому и крепкому стволу, вершиной уходящему в небеса. Многие единомышленники Владимира Соловьева, и особенно наиболее шумные, могут быть названы лишь попутчиками его или птицами, громко певшими на ветвях этого дерева, но не знавшими ни основ его природы, ни смысла его жизни…»[272]
Что касается православного вероисповедания, то оно было для Вл. Соловьева ни с чем не сравнимо уже потому, что он в нем родился, в нем получил свое воспитание и не расставался с ним до конца дней. Однако его всегдашняя либеральная настроенность не могла переварить государственного засилья в церкви. Он употреблял самые резкие выражения в своей критике византийско–московского православия и даже называл эту церковную государственность вовсе не православием и не христианством, но язычеством. С этой точки зрения представляется иной раз весьма странным его игнорирование всей православной догматики, которую он же сам признавал как нечто вечное и нерушимое. Вл. Соловьев практически совсем не знал православной мистики и в своем оправдании православия оставался все же скорее философом, настроенным, несомненно, весьма религиозно, но в то же самое время и чрезвычайно интеллектуалистично. Выше мы видели, что под мистицизмом он понимает не что иное, как свое учение о всеединстве, о вселенском организме. Для практического православия этого было маловато. Летом 1878 года Вл. Соловьев посетил Оптину Пустынь, которая тогда для многих писателей была почти модой. Но нет никаких материалов, которые бы достаточно внятно говорили об его отношении к монашеству. Оптинские старцы, Амвросий и Макарий, в те времена буквально гремели, и ради получения духовного совета к ним съезжались сотни и тысячи православных. В тяжелые минуты 1887 года мысль о принятии монашества приходила на ум даже и Владимиру Соловьеву. Но это было каким‑то временным затмением. Вл. Соловьев — чрезвычайно светский человек; его всегда больше всего интересовало устроение общественной жизни и меньше всего — нелепые для него подвиги монахов, основанные на поте и молитве, на бесконечном смирении и послушании. Об Оптиной Пустыни он не сказал ни одного доброго слова, а старец Амвросий отнесся к нему отрицательно. С. М. Соловьев пишет: «Чем было вызвано неодобрение старца? Конечно, не католическими идеями, которых у Соловьева в то время не было, но, быть может, теми идеями и настроениями, в которых зоркий Амвросий уловил будущего апологета папской непогрешимости»[273]. Нам кажется, что С. М. Соловьев здесь ошибается. Едва ли оптинский старец разбирался особенно в каких‑нибудь догматах и умел их правильно формулировать. Но он, конечно, заметил у Вл. Соловьева отсутствие смирения и страха Божия, а то и другое занимало самое первое место в идеологии православного монашества. Вл. Соловьев был от всего сердца верующим человеком. Но он был, кроме того, еще и интеллектуалистйчесќим систематизатором веры. В июле 1891 года Вл. Соловьев ездил на Валаам. Об этом он сообщает М. М. Стасюлевичу в письме от 27 июля 1891 года: «Из предположенных поездок осуществил только одну — на Валаам. Убедил монахов в их ошибке, а о своем впечатлении расскажу при свидании»[274]. В чем именно заключалось это впечатление, мы узнаем из письма к брату Михаилу, вероятно, в августе того же года: «Я был на Валааме, видел квинтэссенцию настоящего строгого монашества и… плюнул»[275]. Еще в 1873 году он писал Кате Романовой: «Монашество некогда имело свое высокое назначение, но теперь пришло время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его»[276]. Но и в 1886 году он писал из Сергиева Посада канонику Рачкому: «Архимандрит и монахи очень за мной ухаживают, желая, чтобы я пошел в монахи, но я много подумаю, прежде чем на это решиться»[277].