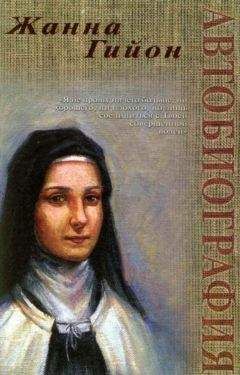Карл VII, сын прелюбодеяния, – воплощенный грех матери. Мать его – прелюбодеица, а отец – сумасшедший: этим отравлена вся его жизнь. Жалкою смертью умрет он от злокачественных язв на ноге и во рту, считая себя, может быть не без основания, отравленным: в самом рождении его влит в жилы его прелюбодеянием матери и безумием отца медленный яд.[167]
Робкий, забитый, запуганный, всеми покинутый и презираемый, вечно колеблющийся и сомневающийся, «нетрагический Гамлет», думает он только об одном: как бы уйти от всего, уснуть во внутренних дворцовых «опочивальных и каморах».[168]
«Что ты спишь, Государь? Quare obdormis, Domine?» – говорит ему один из преданнейших слуг его, Жувенель дез-Урсин, будущий архиепископ Реймский.[169] В жизни происходит с Карлом VII то же, что на одной заставной картинке тех дней: сонный, покоится король на ложе, между старухой Меланхолией, Безумием и юношей Разумом.[170]
Доброе в Карле то, что он любит мир и ненавидит войну. Жалкого королевства жалкий король, он кроток сердцем и жалостлив к бедным людям, таким же несчастным, забитым и запуганным, как он сам, чувствует по себе самому «великую жалость» – великое бедствие королевства Франции.[171] Может быть, от зрелища этого бедствия он и уходит во внутренние дворцовые опочивальни и каморы, чтобы уснуть в них – о, если бы не временным, а вечным сном! Спит король, и все королевство вокруг него засыпает сном смертным.
Бедный король, зачатый, рожденный и вскормленный на куче навоза царственного, спит, ожидая предопределенной спасительницы своей, бедной девочки, вскормленной на куче навоза деревенского. Жанна разбудит короля ненадолго, но все же на столько времени, чтобы спасти Францию.
Через подъемный мост Шинонского замка уже переходила Жанна, а Дофин все еще не решил, что сделает: примет ли ее как Божью посланницу или прогонит как «ведьму». Слушал врагов и друзей ее одинаково, но чем больше слушал, тем больше сомневался и не мог решить, что сделает. Так и не решил до той минуты, когда уже вводили Жанну ее друзья в большую королевскую палату замка.
Больше трехсот вельмож и рыцарей толпилось в палате шумно, как на рыночной площади, в тусклом свете пятидесяти факелов, чадивших под расписными потолочными сваями.[172]
Рыцари – в латах, вельможи – в узких камзолах с опушкой лисьего меха, с прорезными, дутыми на плечах и локтях рукавами, в сафьянных башмаках с такими острыми и тонкими носами, что они загибались. Дамы в платьях из жесткой, как лубок, золотой парчи с длинными хвостами и в высоких рогатых чепцах-кокошниках с падавшими сзади до полу прозрачными дымками. Грубыми и тяжелыми духами, подобными восточным благовониям – мастике, ладану и мускусу, – пахло от дам, а от мужчин сквозь духи пахло так же, как от сира дё Бодрикура, конюшней, кабаком и домом терпимости.
Дамы тщательно прятали волосы под кокошники, потому что показывать мужчинам волосы считалось для женщин таким же стыдом, как открывать наготу тела самую тайную.[173]
Когда в палату вошел или вошла неизвестно кто – мальчик или девочка, простоволосая, – дамы не знали куда девать глаза от стыда, и если бы не любопытство, то все разбежались бы. «Оборотень, ведьма… сжечь… утопить!» – пронесся между ними шепот возмущения и ужаса, а может быть, и тайной зависти, потому что многих мужчин то и пленяло невиданной прелестью в Жанне, что она была неизвестно кто – мальчик или девочка.
Тем, кто не знал Дофина в лицо, невозможно было узнать его в тесно окружавшей его толпе вельмож и рыцарей, потому что он одет был хуже всех. «С продранными локтями ходит король, и когда однажды сапожник принес ему пару заказанных им башмаков для примерки, то унес их назад, видя, что ему за них нечем будет заплатить» – такие рассказы внушали богатым людям презренье к королю, а бедным – нежную к нему любовь и жалость.[174]
Был он и с виду не похож на короля: маленький, худенький, на тонких кривых ножках с нерасходящимися толстыми коленями; сонное, одутловатое лицо с оттянутым книзу над тонкими поджатыми губами мясистым носом и узкими под высоко поднятыми бровями щелками таких оловянно-тусклых заспанных глаз, как будто он хотел и не мог продрать их – проснуться совсем.[175]
Жанне было тем труднее узнать Дофина, что он робко от нее прятался в толпе, может быть, для того, чтоб ее испытать. Но все-таки сразу, только что вошла в палату, она узнала его и прямо к нему подошла. Как могла узнать? Те ли из вельмож, кто ей покровительствовал, подвели ее к нему, или, может быть, ее «Небесные Братья» Ангелы шепнули ей на ухо: «Вот он!»
Прямо подошла к нему, сняв мужскую шапочку (в комнатах, даже при короле, все ходили в шляпах, как на улице), поклонилась ему, по сельскому обычаю приседая на одно колено, и сказала:
– Доброго здоровья да пошлет вам Господь, благородный Дофин!
– Кто ты такая и чего тебе нужно? – спросил ее тот, все еще, быть может, не решив, чтó сделает – примет ли ее, как Божью посланницу, или прогонит, как «ведьму».
– Имя мое – Дева Жанна, – ответила она. – Царь Небесный послал меня к вам, благородный Дофин, чтобы сказать, что вы будете венчаны в городе Реймсе в наместники Царя Небесного, единого Короля Франции!
И, подумав, прибавила:
– Дайте мне ратных людей, чтоб освободить Орлеан!
Что-то было в лице и голосе ее, от чего Дофин решил, или почти решил: «Нет, не ведьма – Божья посланница!» Взяв ее за руку, отвел в сторону и начал с нею тайно беседовать.
– Вот я тебе говорю, – шепнула она ему на ухо, переходя с «вы» на «ты» с простотою детской и ангельской, – вот я тебе говорю от лица самого Мессира Господа, что ты – истинный наследник престола и законный сын Короля…[176]
И тут же будто бы напомнила ему три тайных молитвы его в Лошском замке на повечерии Всех Святых, а может быть, и в церкви Пью-Велейской Черной Девы, Богоматери, куда он пять раз ходил паломником, потому что чтил ее так же усердно, как Жаннина мать и сама Жанна: первая молитва была о том, чтобы, если он, Дофин, – незаконный наследник, Бог дал ему силу прекратить войну с англичанами; вторая – о том, чтобы, если по его вине страдает народ, он, король, был один наказан; и третья – о том, чтобы, если народ страдает по своей вине, Господь простил его и помиловал.[177]
Только что это услышал Дофин, как лицо его просветлело так, как будто светивший в Жанне свет неземной озарил и его. Ожило вдруг сонное, мертвое лицо, точно первый раз в жизни проснулся он как следует.[178] Но, увы, ненадолго: скоро опять заснет и усомнится, кто она – «ведьма» или Божья посланница.
Чтоб самому ничего не решать, он отослал ее в город Пуатье, в свой королевский парламент, на испытание докторов-богословов.[179]
Жанну испытывали в течение трех недель ученые законоведы и клирики, «многими мудрыми и тихими словами доказывая, что нельзя ей верить на слово».[180]
Жанна отвечала на вопросы нехотя. Часто, сидя на конце скамьи, только молча хмурилась и отворачивалась в сторону.
– Жанна, мы спрашиваем вас от лица короля, – напоминали ей судьи.
– Я это вижу. Но ничего не знаю, ни А, ни В! – отвечала она почти с явной насмешкой.
– С чем же вы пришли к королю?
– С чем? – воскликнула вдруг, оживляясь, и чудный огонь вспыхнул в ее глазах. – С тем, чтоб снять осаду с Орлеана и венчать короля! Мэтр Жан, есть у вас перо и бумага? Пишите же: «Английские военачальники, от имени Царя Небесного приказываю вам: вернитесь в Англию»…[181]
– Жанна, на каком языке говорят ваши Голоса? – спросил ее однажды брат Сэгин, доктор богословия, «кислого нрава человек», лимузинец с шепелявым говором.
– Будьте покойны, мессер, Голоса мои говорят на языке получше вашего! – возразила Жанна весело.
– Веруете ли вы в Бога? – спросил ее брат Сэгин с видом еще более кислым.
– Крепче вашего! – ответила Жанна.[182]
Если же духовные отцы возражали ей от книжной мудрости и от учения Церкви, она отвечала им:
– Слово Божие мудрее вашего: есть у Мессира Господа книга, которой никакой клирик не разумеет, как бы он ни был учен![183]
Судьи Жанны хорошо понимали, что этого дерзкого ответа достаточно, чтобы разрушить всю Церковь, и что обличить Жанну в «ереси» очень легко; но дело шло теперь не о том, чтобы изгонять ереси из Церкви, а о том, чтобы изгнать англичан из Франции, потому что и у них самих, нищих подданных, так же пусты были котлы и продраны локти, как у короля их, нищего. Вот почему, хотя и чувствовали, что «пахнет от Жанны паленым», прятали они когти до времени.[184] А может быть, вспоминали и два таинственных пророчества; первое – Бэды Достопочтенного: