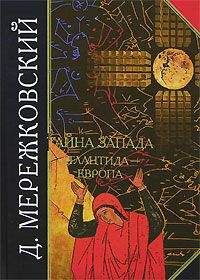Чтобы смешать тело с тенью, надо быть слепым; но и слепому стоит только протянуть руку, пощупать, чтобы почувствовать, что тело не тень. Был ли Иисус? В голову никому не пришел бы этот вопрос, если бы до него уже не помрачало рассудка желание, чтобы Иисуса не было. Чудо Христово в древних таинствах такое людям бельмо на глазу, что они готовы лучше отвергнуть историю, чем принять ее с этим чудом.
«В пятнадцатый же год правления Тиберия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее... был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии» (Лук. 3, 1–2). Если из шести синхронизмов, совпадающих времен, у ев. Луки, – Теберия, Пилата, Ирода Антипы, четверовластника, Филиппа, брата его, Лизания, первосвященников, Анны и Каиафы, – только два первых точны, а остальные сомнительны, то и этого достаточно, чтобы вдвинуть христианство в историю, найти в ней точку опоры для этого Архимедова, подымающего землю, рычага.
Дорого бы дали такие враги Христа, как Тацит, Иосиф Флавий, талмудисты первых веков христианства, и Лукиан, и Цельз, чтобы усомниться в бытии Врага; но вот, не сомневаются: так же уверены, что Иисус был, как что был Юлий Цезарь или Август.
«Что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали, и что осязали руки наши, – Слово жизни... возвещаем вам» (I Ио., 1, 1). Эта-то слышимость, видимость, осязаемость, «телесность» исторической личности Христа – «ибо в Нем вся полнота Божества обитала телесно» (Кол. 2, 9), – и входит в плоть времени – историю; это и режет ее, как алмаз режет стекло.
Что было бы с человечеством, если бы не было Христа? Чтобы ответить на этот вопрос нехристианам, надо бы написать всемирную историю заново, с еще невидимой для них точки зрения Конца – «Атлантиды-Европы». Ясно, впрочем, одно и сейчас: боги таинств не спасли бы мира, если бы суждено ему было погибнуть.
«Нынче до того дошло, что о таинствах слышать не хочет никто из людей добродетельных; только блудницы да разбойники посвящаются в них», – говорит Филон Александрийский, современник Христа, иудей, враг эллинства вообще и эллинских таинств в частности (Philo, de spec. leg., 1. 323. – H. Leisegang. Pneuma Hagion, 1922, p. 34). Как ошибается Филон, видно уже из того, какое значение приобретают таинства, лет через двести. Митрианство – последний оплот римского могущества, в общем упадке и немощи, – распространяется вслед за легионами, от Каппадокии до Британии, спасая Рим от нашествия варваров. Бога Митру объявляет Диоклетиан «зиждителем римской державы» и воздвигает ему святилища по всей империи: в самый канун торжества христианства весь мир, кажется, готов поклониться Митре (Fr. Cumont. Les mystères de Mithra, 1902, p. 36, 168. – Les religions orientales dans le paganisme romain, 210). Сам Константин Равноапостольный долго колеблется между Христом и «Верным Солнцем», Certus Sol, Митрою, как будто Христос – «Солнце неверное» (A. Gasquet. Mystères de Mithra, 1899, p. 35).
Чем объяснить такое всемирное действие таинств, если не какой-то в них скрытой, жизненной силой? Но, может быть, Филон не совсем ошибается: что-то было, если не в самих таинствах, то около них, обреченное.
В скромном, беленьком домике, у Дипилонских ворот, в пышноотцветающих Афинах III века до Р. X., тихо живет, тихо умирает, как ясная, на безоблачном небе, заря, неисцелимо-больной мудрец. В теплые зимние дни его выносят на солнце, в жаркие, летние, – в свежую тень. Люди собираются к нему, как осенние пчелы – на последний цветок, и жадно впивают мудрые, тихие речи, как мед.
Вечно-страдающий, вечно-блаженный, он учит людей побеждать страдание тихой и мудрой усмешкой над жизнью и смертью, над злом и добром, над людьми и богами, – надо всем. Боги, – учит, – как светлые тени в Елисейских полях, как дневные звезды, незримые людям, живут в Междумирьях, – недвижных, между веками движения, вечностях, ясных, между бурями, затишьях, сладостных, между болями, успокоениях, – Блаженных Островах, Атлантидах. Сущие – несущие, мертвые – бессмертные, в судьбах людей не участвуют. Тщетны молитвы, – никто их не слышит; жертвы напрасны, – их не принимает никто. Люди одни. Есть ли боги, нет ли богов, все равно, человек сам себе Бог. И с тихой улыбкой мудрец умолкал.
Кто это? Первый человек, «победивший страх богов», Эпикур (Зелинский. Древнегреческая религия, 127). Вся языческая древность кончается этою мудростью неисцелимо-больного. Начал Сократ, продолжал Эпикур, кончил Лукиан-Лукреций; кончают и все, до наших дней, «люди-боги».
Так же как Сократ, Эпикур отказался бы от посвящения в Елевзинские таинства. Лет через четыреста, не отказался император Адриан; но, посвященный, издевается над верой в богов и поет, умирая, веселую песенку:
Душенька сирая, бедная,
Тела гостья недолгая,
Ныне куда убегаешь ты?
Бледная, зябкая, голая,
Больше не будешь играть!
Animula, vagula, blandula,
Comes hospesque corporis
Quae nunc abibis in loca?
Pallidula, frigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis jocos.
(
Champagny, Les Antonins, 1863, II, v. p. 100)
Всюду воздвигает он великолепные, но пустые, неведомым богам святилища; их называют «Адриании» (Hadrianeia), по имени кесаря, потому что он – последний и единственный, ведомый бог. Мраморы, гладкие, как зеркала, отражая друг друга, углубляют в них пустоту бесконечную. Иерусалим разрушен так, что не осталось камня на камне; плугом вспахана земля и посыпана солью, в знак проклятья. Мерзость запустения стала на святом месте: на Сионе – Aelia Capitolina, на Голгофе – храм Венеры. Кесарь гонит христиан, но думает иногда, не принять ли, на всякий случай, Христа в сонм Олимпийских богов, не посвятить ли Ему один из пустых Адрианиев? «Christo templum facere eumque inter deos recipere... cogitasse fertur» (Lamprid., Alexand. Sever., с. XLIII).
«Горе! Я, кажется, делаюсь богом. Vae! puto, deus fïo», – шутит, умирая, Веспасиан над предстоящим ему, как богу-кесарю, апофеозом (Sueton., Vespas., c. 39. – G. Boissier. La religion romaine, 1873, p. 177).
«Не было меня – нет меня», – сказано в одной языческой гробничной надписи поздних времен; лучше, пожалуй, не скажут и «люди-боги» наших дней.
«Так-то поклоняются они (христиане) распятому софисту», – говорит Лукиан в «Смерти Перегрина», грубой и плоской карикатуре на христианство (Lucian., de morte Peregrini, c. II). Умный Самозатский насмешник, как это часто бывает с умными людьми, оказался в дураках: «маленький жид с крючковатым носом и лысиной», босоногий бродяга, Павел, поджег сухую степь, и пламя пожара, вспыхнув с чудесной быстротой, в сто двадцать лет, распространилось от Нила до Великой Тартарии, от Инда до Атлантики (Champagny, 1. с., 636).
«Всех богов иерофантом» называет себя неоплатоник Прокл, истолкователь «Атлантиды» Платона, не подозревая, что «все боги» – значит «ни одного» (H. Graillot. Le culte de Cybele, p. 538). – «Есть много путей к истине; каждое богопочитание предлагает свой путь, и мудрый шествует по всем путям, чтобы тем легче дойти до истины», радуется «последний язычник», Симмах, не подозревая, что «все пути» – значит «ни одного» (A. Gasquet, 1. с., 136).
Слишком знакома и нам эта всеядность позднего язычества. Все едим, чтобы ничем не насытиться: пресно, тошно все, как соль, потерявшая силу или яства на дьявольском шабаше.
В таинства всех богов посвящен император Коммод, что не мешает ему быть извергом. Домитиан, венчанный гладиатор, объявлен «Великим Кабиром» Самофракийских таинств, а мать Элагабала, сирийская блудница, – «Афродитой Небесной». Матереубийца Нерон благочестивее: не посмел принять посвящения в Елевзинские таинства.
Юлия Домна, мать Каракаллы, та, что шепчет сыну своему, на ложе кровосмешения: «Si libet licet, если хочешь, можешь», – изображаемая на монетах возносящейся на небо Матерью богов, Кибелою или Новою Деметрою, внушает другу своему, Филострату, написать «Жизнь Аполлония Танского», чтобы этого ученика индийских браминов, учителя всех теософов, бывших и будущих, полубога, полумошенника, противопоставить Христу (Ревилль. Религия в Риме при Северах. Русск. перев., 1898, с. 213, 216, 228, 233).
В 218 г., восходит на престол Элагабал, жрец сирийского бога солнца, Эль-Габала, четырнадцатилетний мальчик, прекрасный как Дионис Андрогин, и, выросши, удивляет неистовым развратом даже ничему уже давно не удивляющийся Рим.
Людям кажется, что снова посетило мир двуполое страшилище, Агдистис, чтобы «все разрушать, ни людей, ни богов не страшась и думая, что нет никого ни на земле, ни на небе, сильнее его».
Таинства, в самом святом – в откровении божественной Двуполости, оскверняет он так, как еще никто никогда. В верховное божество Рима-мира возводит свой собственный непотребный мужеженский пол под видом святого камня Бэтиля – знаменья двух в Боге естеств, Отца и Матери. Пляшет перед ним, как одалиска, весь голый, только в венце из драгоценных камней, с бычьими рогами Ваала, в дыму благовонных курений и в смраде сжигаемых человеческих жертв. Всех блудниц Рима собирает во дворец, пьянствует с ними и, напившись, хвалится, что у него больше любовников, чем у какой-либо из них. Бога своего, Эль-Габала, женит на карфагенской богине, Афродите Небесной, и женится сам на римской весталке, Аквилии Севере. То, переодевшись женщиной, занимается, в глухих улицах Рима, промыслом кабатчиц и блудниц; то, целыми днями, с терпением слабоумца, выщипывает на теле своем, волосок за волоском, чтобы сравняться гладкостью кожи с невинной девушкой; велит называть себя «императрицей» и желает возвести на престол «мужа» своего, карийского раба, Гиерокла, за enormitas membri; то, в золотой колеснице, запряженной голыми женщинами, совершает триумфальное шествие по городу, выставляя напоказ уличной черни свой «божественный пол».