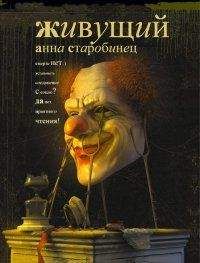Но отринуть мир — то же самое, что отринуть себя. Даже у праведников не может быть ликования от гибели мира, как бы ни пытался нас в этом убедить Иоанн в последних главах своего сочинения. Мир — творение Божие. Разве может быть в его гибели какая-нибудь радость? В чьей-либо гибели? Даже блудница, каковы бы ни были ее грехи, никогда не погибает одна. Страшно, когда болезнь такова, что может быть излечена лишь полным разрушением — потому что потом, если удастся уцелеть, все равно придется снова строить. И опять будет не суждено поправить совершенные ошибки, их уготовано только повторить, потому что человеку свойственно о них сразу же забывать. Потому что разрушение беспамятно — оттого его так желательно избегать.
Вот на какие мысли наводит грозное пророчество Иоанна Богослова. И не случайно образ вселенской блудницы — Города и городов, Мира и миров, цивилизаций и всей Цивилизации, символ одновременно яркий и традиционный — оказался главнейшим из образов Апокалипсиса, вторым, одновременно с Башней, важнейшим из вавилонских образов Библии. Он проник во все языки и культуры христианских наций, а многочисленные проповедники будущего использовали — и используют — эту фигуру речи для обличения великих институтов, иногда не меньших, чем языческий Рим. Пришел день, когда эти слова были брошены и в лицо самой католической Церкви[685].
Завершается Апокалипсис совершенно вавилонской, скажем больше, шумеро-аккадской сентенцией — проклятием тому, кто «приложит» или «отнимет что от слов книги пророчества сего». На первых «наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей», а у вторых «отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей»{221}. Ничего подобного нигде в Писании не встречается, за исключением Книги Второзакония[686]. Но как это похоже на проклятия стеллы Хаммурапи тому, кто «слова мои исказит, предначертания мои изменит»! Так нет ли в этом предостережении еще одного объяснения тому, почему Откровение завершило Новозаветный канон?[687] Только Откровение содержало в себе формулу священного заклятия, причем заклятия пророческого, которое недвусмысленно возвещало окончательное закрепление текста. Эта формула сразу же стала относиться ко всему Писанию[688]. Так Апокалипсис завершил Библию — ив смысле философском, и содержательном. Более чем тысячелетнее Откровение закончилось, теперь надо было его осмыслять и применять в повседневной жизни. Две последовавшие за этим тысячи лет не дают основания предполагать, что этот процесс близок к завершению.
Автору Апокалипсиса принадлежит создание подробной альтернативы обители земного порока — описание упомянутого выше «святого града», или небесного Иерусалима, содержащееся в предпоследней, 21-й главе книги[689]. Образ этот — анти-Вавилон, в который не войдет «ничто нечистое»{222}, в дальнейшем стал иногда пониматься так, что царством греха и порока является все земное существование человеческое. Небесный же Иерусалим, Царство Божие, ожидает избранных лишь в будущей жизни. Из этого следовало, что любые аспекты жизни земной являются богопротивными, а попросту — созданием сатаны. Такие умозаключения суть проявления все того же достаточно распространенного порока: поместить «конец света» или нечто, ему подобное, в каком-то определенном будущем и поэтому отрицать настоящее. Упорное желание вычитать что-либо «чисто конкретное» из великих текстов приводит к тому, что люди перестают жить, в том числе, и в самом прямом смысле.
В свое время идея отрицания «тварного мира» была с весьма печальными последствиями использована некоторыми религиозными течениями, но об этом надо рассказывать отдельно. А на протяжении двух тысячелетий распространенную точку зрения на загробную судьбу душ людских можно было описать, следуя неизвестному русскому автору XVII в., уверенному в том, что «человеку праву» Создатель «дасть почесть венца в пресветлом Сионе, грешника же посадит в темном Вавилоне»{223}. В народном сознании Вавилон был приравнен к аду — не больше и не меньше.
Место вавилонского мифа было таким образом строго определено, а образ Города приобрел малопривлекательную однозначность. Его именем стали обозначать средоточие порока, как физического, так и духовного. Не было никакой разницы, употребляли ли слово «Вавилон» Августин и Эразм или гораздо менее сведущие в Священной истории их современники — клеймо было яркое и несмываемое. Соответствующие выражения вошли во все европейские языки: можно, например, вспомнить английское «The Whore of Babylon». Нет смысла вылавливать все упоминания Вавилона у средневековых авторов. Понятно, что образ его был полностью заимствован из Священного Писания и употреблялся соответственно[690].
Не повезло всем без исключения «вавилонским» фрагментам Библии. Например, для убежденного христианина должен представлять некоторые трудности призыв разбить вавилонских «младенцев о камень», содержащийся в одном из ветхозаветных псалмов[691]. Тот же бл. Августин объяснил, что все это — аллегория, а «вавилонскими младенцами» являются дурные помыслы, от которых надо со всей строгостью избавляться[692]. Данную точку зрения в конце XIX в. прокомментировал и Вл. Соловьев: «Дух должен обнаружить свою твердость и непроницаемость для чужеродных элементов. Это правило у церковных писателей обозначается как требование “разбивать вавилонских младенцев о камень” по аллегорическому смыслу псаломского стиха: “Дщи Вавилоня окаянная! Блажен, иже возьмет и разбиет младенцы твоя о камень” (Вавилон — царство греха; вавилонский младенец — зародившийся в помысле и еще не развившийся грех; камень — твердость веры)». Вслед за этим великий философ блистательно разъясняет, как надо бороться с дурными помыслами в обыденной жизни и каковы могут быть последствия отказа от такой борьбы{224}.[693]
Новая эпоха в жизни вавилонского мифа началась незаметно: после того как гуманисты и религиозные реформаторы, вслед за Иоганнесом Рейхлином, составившим первую европейскую грамматику иврита, обратились к первоисточнику Ветхого Завета, Библию стали заново переводить с оригинала (М. Лютер) и построчно ее комментировать (Ж. Кальвин). Тогда и зародилась классическая европейская филология, приведшая к постепенному открытию многослойности древних текстов (результатами этих исследований мы не раз пользовались на протяжении нашего труда). Дальше — больше. В XVIII в., после эпохального труда Гиббона «Закат и падение Римской империи», возникла историческая наука. История перестала быть чистой беллетристикой, а стала, хотя бы частично, систематической научной дисциплиной (хотя владение литературным стилем историкам по-прежнему не вредит, и даже является профессиональным показанием). Общественный резонанс исторических исследований уже тогда был закономерно высоким. Достигшая зажиточности европейская культура решила объяснить свои успехи, а заодно и выяснить их происхождение. Так Вавилон стал предметом, о котором образованным эрудитам полагалось знать. Началось восстановление традиции.
В течение Нового Времени Библия и классическая культура существовали параллельно; при этом обращаться к христианским религиозным текстам можно было только с официально утвержденными намерениями. За отступление от них можно было легко сгореть на костре, или, в более вегетарианские времена, угодить на веки вечные в довольно душную камеру. Однако постепенно на Библию стали смотреть как на исторический источник, тем более что отдельные части Ветхого Завета действительно являлись летописными сводами и отрицать это было довольно сложно[694]. В результате Священное Писание привело европейскую мысль на древний Восток. Началось обращение к далекому прошлому, постепенно заманившее ряд искателей приключений к тем холмам, под которыми скрывались остатки великого города. Так реальность столкнулась с легендой. И легенда была по-прежнему очень сильна.
Но настолько черными красками был раскрашен легендарный Вавилон, настолько антихристианским и антиобщественным он должен был казаться, что с течением времени это вызвало неимоверный интерес к Вавилону реальному. Когда же в течение XIX в. влияние церкви ослабло, а структура общества изменилась, — то звезда Вавилона вдруг засияла каким-то новым светом. Ведь ни парижан, ни нью-йоркцев не смущает, что их города называют «Вавилонами». Это слово снова стало в соответствии со смыслом 11-й главы Книги Бытия обозначать великий город — центр мира[695]. Так миф о Вавилоне начал брать реванш у породивших его цивилизаций — на всех фронтах[696].