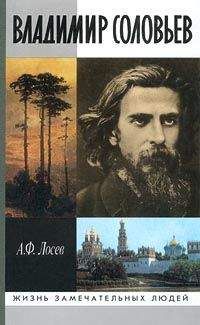Нам хотелось бы отметить еще одну черту как церковнополитических, так и философско–национальных исканий Вл. Соловьева в течение 80–х годов. Именно: несмотря на весь энтузиазм и психологический пафос философа, его конструкции обладают некоторого рода утопическим‚ и притом мягко–утопическим‚ характером. Преимущество римского католицизма Вл. Соловьев действительно проповедовал. Но, с другой стороны, сам он в католицизм не переходил и даже не считал нужным. Более того. Реальный переход из православия в католицизм виделся ему как глубокая ошибка и заблуждение. Россию он очень любил и ее мировую роль выдвигал на первый план. Но тут у него не было ни славянофильства, ни западничества. Не было совершенно никакого мессианизма, поскольку и все другие народы тоже, по его мнению, участвуют в строительстве церкви вселенской. Да и сама эта вселенская церковь, скорее, была для Вл. Соловьева социально–историческим и космическим идеалом, о котором он трактовал весьма свободомыслящим образом.
4. Учение о теократии. Социально–исторические искания Вл. Соловьева при строгом логическом подходе к ним представляют собою не только весьма разнообразную, но и противоречивую картину идей, настроений, упований и разочарований. Едва ли, однако, можно подходить к этому вопросу только формально–логически. Теократия была у философа действительно основной установкой и в его общерелигиозных, и в его конфессиональных, и в его общенациональных взглядах. Отношение его к теократии не было логически выдержанной концепцией, но было весьма гибким принципом его жизненно–прагматических настроений. Сейчас мы попробуем хотя бы просто перечислить главнейшие позиции философа в этой обширной области.
Прежде всего такой трактат, как «Духовные основы жизни», предполагает весьма спокойное и благочестивое православие вне всяких агитационных приемов в области теократической философии. Этот трактат писался и издавался Вл. Соловьевым одновременно с его весьма страстным и часто нетерпимым конфессионализмом, свидетельствуя, повидимому, о том, что в глубине своего сознания он всегда оставался на почве строгого и старинного православия с традиционными учениями о послушании и о необходимости во всех делах подражать образу Христа. Книга эта вышла в 1884 году и затем в 1885 году, то есть в те годы, когда Вл. Соловьев буквально пылал своими национальными и конфессиональными страстями. И когда этот трактат вышел третьим изданием в 1897 году, то он оставил его почти без изменений, если не считать мелких стилистических поправок. Таким образом, среди всех этих бурных теократических гИ конфессиональных страстей спокойно–величавое понимание православия осталось у Вл. Соловьева нетронутым.
Далее, совсем иную картину мы находим в те годы, когда у него росли его римско–католические восторги. Но и здесь далеко не все было так просто. Мы уже видели, как он критикует римский католицизм за его юридически–формалистическую основу, которая представляется ему чем‑то даже антихристианским. Тут же, однако, в середине 80–х годов, готовился у него отчаянный погром всего византийско–московского православия, проявлялось его весьма слабое внимание к монашескому келейному подвижничеству на Востоке и в связи с этим понимание Византийского государства как языческого. Выходило, что настоящее христианское государство — только на Западе, только в условиях развития римского католицизма.
Но и на этой позиции Вл. Соловьев долго не мог удержаться. То он утверждал, что Константин Великий насаждал языческое государство, ничем не отличное от Диоклетианова, а то объявлял его «равноапостольным». Отношение к Риму у него все время колебалось. То относился к нему спокойно и почти безразлично, а то восхвалял римский авторитет как основной даже для периода Вселенских соборов. О страстности его суждений свидетельствует, например, такое заявление в письме И. С. Аксакову (март 1883 года): «Будь я проклят как отцеубийца, если когда‑нибудь произнесу слово осуждения на святыню Рима»[306]. Это письмо вообще полно самых горячих симпатий по адресу Рима и прославлений его ни с чем не сравнимого величия. Значит, когда Вл. Соловьев осуждает политику патриарха Никона и в дальнейшем связанную с ней казенную церковь с обер–прокурором Св. Синода во главе, то это для него оказывается подражанием именно римско–католической церковной практике. А когда он начинает прославлять Рим, то уже забывает об его самодержавной политике, так что, в конце концов, дело доходит не только до прославления римского авторитета, в котором Византия никогда не сомневалась, но прямо до невообразимого для всего православного Востока догмата о непогрешимости папы.
В связи с этим самую разнообразную окраску получает у философа его основное социально–историческое учение, а именно учение о теократии. Наличие самой проблемы теократии у Вл. Соловьева не может вызывать никаких сомнений. Ведь мы же знаем, что он уже в первых своих теоретических трактатах по философии проповедовал идею всеединства. Это всеединство было у него не просто характерным для бытия или действительности вообще. Философ хотел находить его и в общественно–политической области. Тогда и получалось у него, что вся общественно–политическая власть должна принадлежать человеку, которого уже нельзя назвать ни императором, ни патриархом, но чем‑то таким, в чем духовная и светская власть сливаются до полной неразличимости. Следовательно, теократия есть просто логический вывод из его теории всеединства.
Но это еще куда ни шло. Самое главное здесь то, что, по крайней мере в некоторые моменты своего теократического учения, Вл. Соловьев совершенно всерьез, да не только всерьез, а с самой настоящей страстностью и ораторским подъемом проповедовал теократию как совершенно конкретную и буквально понимаемую форму правления. Здесь, однако, его ждали жесточайшие разочарования, так что вся теократия превращалась у него в какую‑то мечту о вселенской церкви при полной неизвестности и непонятности тех путей, на которых исчезали все конфессиональные и национальные противоречия. Теократия волей–неволей превращалась в романтическую утопию, которая, в конце концов, доставляла ему не искомую блаженную радость в связи с человеческим всеединством, а, скорее, невыносимое страдание вследствие неосуществимости всякого подобного утопизма[307].
5. Разочарование в теократии. Это разочарование не замедлило появиться у Вл. Соловьева всего через несколько лет после выхода его французской работы «Россия и Вселенская церковь» (1889). То, что это было связано с зарождавшимся у философа весьма мрачным отношением к тогдашней русской общественности, весьма внушительно рисует Е. Н. Трубецкой в первой главе второго тома своего известного труда о Вл. Соловьеве, причем эта глава так и называется «Крушение теократии». Начиная с 1894 года Вл. Соловьев печатает статьи, которые впоследствии вошли в его большой труд «Оправдание добра». Сличение его с первоначальными замыслами автора приводит к поразительным результатам. Философу пришлось изменить свою прежнюю точку зрения, что и привело ко многим противоречиям и несогласованностям.
Дело в том, что задачей этого трактата являлось как раз всечеловеческое утверждение принципа нравственности. Тут, казалось, и нужно было строить всю нравственную теорию на теократии и увенчивать ее теократией. На самом же деле у Вл. Соловьева получалось так, что вначале он проповедует свободу нравственности не только от теоретической философии, но даже и от религии, приводя аргументы, многие из которых звучат весьма солидно, как, например, наличие одних и тех же нравственных законов в совершенно разных религиях.
Однако удержаться на позиции такого изолированного и абсолютизированного нравственного учения Вл. Соловьеву в этом трактате никак не удалось. Правда, два основных начала нравственности, стыд при использовании низших или животных сфер и жалость, или симпатическое чувство, в отношении к равным себе (VIII, 49—57), звучат достаточно позитивно и действительно не имеют прямого отношения к религии и философии. Но уже третий исток нравственности, а именно благочестие или уважение к высшим сферам (VIII, 59—61), свидетельствует о прямой зависимости даже первичных оснований нравственности от религии. Тут у Вл. Соловьева приходится наблюдать некоторого рода противоречие.
Но самое интересное то, что общее и довольно позитивное содержание всего «Оправдания добра» неожиданно оканчивается вдруг опять прежними рассуждениями периода теократических увлечений. Здесь, правда, нет самого термина «теократия», но все‑таки вновь появляется рассуждение о царе, первосвященнике и пророке, что было характерно для прежнего Вл. Соловьева (VIII, 508—511).