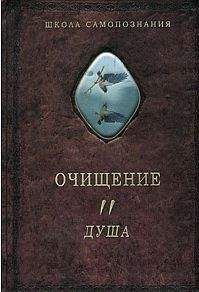Но почему же мы с легкостью необыкновенной проделываем подобную варварскую процедуру с психической реальностью? Нам напомнят, что о пространственности психического в соответствии с декартовым противопоставлением души и тела говорить вовсе не принято.
Итак, мы получаем следующую картину. Психическое обладает предметно-смысловой реальностью, которая, существуя во времени (да и то передаваемом в компетенцию искусства), не существует в пространстве. Отсюда обычно и возникает банальная идея поместить эту странную реальность, то есть психическое, в пространстве мозга, как прежде помещали его в пространство сердца, печени и тому подобное» (Зинченко, Мамардашвили, с. НО).
Я не до конца согласен здесь с авторами и считаю, что современные психофизиологи, давно забывшие Декарта, держатся за мозг исключительно ради его материальности, чтобы не скатиться в идеализм. То, что при этом необходимо выполнить одно условие — для того, чтобы сознание (Зинченко и Мамардашвили используют слово «психика», но это только для начального разговора) помещалось в мозг, нужно, чтобы оно туда умещалось, то есть было непространственно, а значит, было именно Декартовым сознанием, — это для психофизиологов, наверное, откровение. Поди, и сами не знали, что являются картезианцами!
А далее становится ясно, что Зинченко и Мамардашвили, по сути, воюют не только с марксистским пониманием сознания, но и с тем пониманием, что я называю простонаучным. Они называют его обыденным, но для ученых.
«Ведь обыденному сознанию легче приписать нейроналъным механизмам мозга свойства предметности, искать в них информационно-содержательные отношения и объявить предметом психологии мозг, чем признать реальность субъективного, психического и тем более признать за ним пространственно-временные характеристики.
Нужно сказать, что подобный ход мысли можно обнаружить не только у физиологов, но и психологов. Следствием его является то, что в психологии термин "объективное описание" употребляется в качестве синонима термина "физиологическое описание", а «психологическое» — в качестве синонима "субъективное"» (Там же).
Психологам все-таки очень почему-то удобно быть людьми второго сорта. И, кстати, не только нашим. Европейские и американские психологи уже в начала 80-х начали тонко попискивать о том, что «их подход к проблеме сознания в корне неверен», раз оно не поддается пониманию, но при этом крутятся и крутятся вокруг связки Я—Мозг. Точно у них в этом месте ножка к полу прибита гвоздиком. Суть их попискивания ничем не отличается от возмущенного покрикивания советской Науки. От мозга отойти невозможно — так недолго утерять последний оплот и опору Материализма в этом мире!
При этом мысли Зинченко и Мамардашвили о том, что субъективное — реально, а это значит, в каком-то смысле «вещественно», остались попросту незамеченными. И не помогло то, что к этому времени они уже были признанными мастерами своего дела и писали в главный журнал страны. Их не заметили за рубежом, их тем более не признали в своем отечестве. Разве что несколько друзей неуверенно поулыбались, мол, очень, очень любопытно…
Мамардашвили и Зинченко идут даже дальше — они видят в «психическом», то есть в сознании, возможность выхода в некую иную реальность. Очевидно, эта возможность была для них важна, но в этой статье они вынуждены были больше скрывать, чем рассказывать, и я опущу эту тему. Также я опущу и очень интересные, но сложные темы языка описания сознания и объективного наблюдателя. Авторы говорят об этом с точки зрения науко-творчества, то есть требований к созданию науки о сознании, и тем усложняют понимание. В любом случае, понятие языка описания сознания оказывается связанным с «особой реальностью».
«Кмысли о том, что субъективность есть реальность, независимая от познания ее, от того, где, когда и кем она познается, приводят и опыт истории культуры, наблюдение крупных эпох истории человеческого сознания.
Например, уже экскурсы психоанализа Фрейда в древние мифологические системы культуры показывали, что тысячелетиями существовавшая картина предметов и существ воображаемой сверхчувственной реальности, ритуально инсценируемых на человеческом материале и поведении, может быть переведена анализом в термины метапсихологии. Точнее, она может быть переведена в термины знания механизмов воспроизводства и регуляции сознательной жизни, опосредуемого в данном случае принудительным для человека действием особых, чувственно-сверхчувственных, как назвал бы их Маркс, предметов.
А отсюда возможность рассматривать последние, наоборот, как объективированную проекцию первых, как вынесенные в реальность перевоплощения их психического функционирования» (Там же, с. 115–116).
«Чувственно-сверчувственные предметы» означают, что слово «реальность» здесь используется в своем исконном «вещном» значении. Хотя эти «вещи» и особые.
«…независимость психических процессов от внутрикультурных гипотез и теорий вновь указывает на их объективность. А это единственно открывает поле научному методу их изучения, поле, совершенно независимое как от обязательного поиска материальных их носителей в мозгу, так и от каких-либо априорно положенных норм, идеалов, ценностей, "человеческой природы" и т. п.» (Там же, с. 116).
А далее, вновь опираясь, насколько это возможно, на Марксову оппозицию практики и мысли, авторы дают описание среды, которую исследуют. Нужна ли в действительности эта оппозиция, я не знаю.
«Эта существенная оппозиция теперь известная всем, но не всегда осознаются ее следствия для психологии: то, что она уничтожает примитивное различение души и тела.
Последовательное проведение ее в психологических исследованиях предполагает принятие того факта, что субъективность сама входит в объективную реальность, данную науке, является элементом ее определения, а не располагается где-то над ней в качестве воспаренного фантома физических событий, элиминируемого наукой, или за ней в виде таинственной души.
Говоря, что субъективность "входит в реальность", мы имеем в виду, что она входит в ту реальность, которая является объективной, каузально организованной по отношению к миру сознания, данному нам также и на "языке внутреннего". Только задав ее в самом начале (так же, как и в биологии явление жизни), в трансцендентной по отношению к "языку внутреннего" части, мы можем затем выделить объективные процессы (идущие независимо от наблюдения и самонаблюдения), выделить стороны предмета психологического исследования, поддающиеся объективному описанию в случаях, когда неизбежно и, более того, необходимо употребление терминов «сознание», «воление» и т. п.
Потом уже поздно соединять сознание с природными явлениями и описывающими их терминами, и мы никогда в рамках одного логически гомогенного исследования не выйдем к месту, где что-то кем-то мыслится, видится, помнится, воображается, узнается, эмоционально переживается, мотивируется. А ведь и помнится, и воображается, и мыслится, иузнается…» (Там же, с. 116–117).
Иными словами, наше самопознание, познание того себя, того Я, что мыслит, воображает, помнит, невозможно, если изначально понимать сознание неверно. Психология начинает соединять сознание с природными явлениями вроде мозга искусственно, механично, упустив ту очевидную связь, которая между ними существует.
Действительно, глупо придумывать какие-то искусственные объяснения, если есть настоящее. И если это настоящее просмотрели, то ведь не просто все остальные объяснения неверны — все Науки, которые себя на этом построили — полный хлам! Как, по-вашему, почему тысячи ученых по всему миру не заметили этой статьи?
На деле я вовсе не уверен, что Зинченко и Мамардашвили ко времени выхода этой статьи выстроили полное и завершенное понимание сознания. Их игра в наукообразность постоянно приводит к тому, что понятия «сознание», «психическое» и «субъективность» подменяют друг друга, а их значения как бы нанизывают одно на другое. К примеру, выражение «мир сознания» приходит в противоречие с пониманием сознания как «психических интенциональных процессов» в определении:
«В свете такого построения сознания, психические интенционалъные процессы с самого начала привлекаются к анализу не как отношение к действительности, а как отношение в действительности» (Там же, с. 117).
Нечеткость научного языка, использующего слова из разных языков без их соотнесения друг с другом, была, конечно, нужна, чтобы спрятаться от тех, кто мог наказать. И задача этой статьи во многом была в том, чтобы ее не поняли. Не поняли те, кому не нужно. Из-за этого ее не поняли и многие из тех, кому нужно.