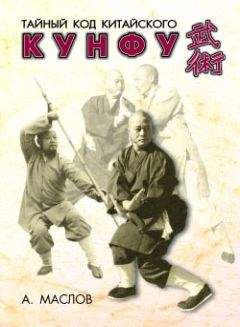Надо всегда оставаться в «золотой середине», в «промежутке» между боевым и гражданским, внешним и внутренним, ведь не может же быть боевого искусства без боевых приемов, равно как не может существовать ушу лишь как способ постановки сильного удара, типа европейского бокса. В начале века, впрочем, как иногда и в наши дни, эта полифункциональность ушу не замечается европейцами — по этой причине в обиход вошло нелепое выражение «китайский бокс», «шаолиньский бокс», «бокс Великого предела» (имеется в виду тайцзицюань), что ставит ушу на уровень европейского аналога и лишает его внутренней перспективы.
Целостность, объемность жизни, ее постоянная неоднозначность, кажущаяся противоречивость, ведущая на самом деле к единству, — это путь полнокровной жизни человека вообще, а не только бойца ушу. Об этом универсализме принципов боевых искусств образно говорил один из канонов тайцзицюань: «Одна деревянная подпорка не удержит всей конструкции, одной ладонью не сделаешь хлопка в ладоши.[87] Это справедливо не только для гражданской основы и боевой тренировки, но и для всех явлений в мире. Гражданское — это внутренний принцип, а боевое — это внешнее множество техники. Внешнее множество техники без внутреннего принципа — всего лишь отвага грубого свойства… Тот, кто обладает лишь внутренним принципом без внешней техники, кто лишь думает об искусстве покоя и ничего не знает о способах ведения поединка, проиграет, едва допустив малейшую ошибку».[88]
Подведем краткий итог сказанному о равновесии между вэнь и у. Эти два понятия стали важнейшим императивом воспитания истинного бойца ушу и наиболее глубокое осмысление приобрели в XVII–XVIII веках после становления стилей «внутренней семьи». Именно здесь гражданское и военное стали осознаваться как способ гармоничного пестования внутреннего и внешнего начал в человеке. При этом вэнь и у понимались чрезвычайно широко, например, как гражданские и военные науки, внутренний ритуал и его внешнее проявление, внутренний принцип и внешнее множество техники, спокойные размышления и грубая отвага, мудрость и сила. В любом случае параллельное воспитание двух начал способно сформировать того, кого даосы называли «цюаньжэнь», — «человека целостных свойств». Поэтому мы и говорим, что ушу — не только мощное боевое искусство, не только эффективная система физического оздоровления, но это еще и путь духовного здоровья, умение видеть за обыденностью действия живую душу «человека культурного» во всей ее полноте и единстве с окружающим миром. Наверное, в этом сегодня и состоит высшая ценность ушу, не только являющегося продуктом китайской культуры, но несущего в себе общечеловеческие духовные ценности.
Часть 2
Элегия священного предела
Глава 10
Предвоплощенная жизнь
Внутреннее искусство таится как в Едином Дао, так и в обыденной жизни. Что может быть потаеннее? Разве что может быть глубже? Но разве что может быть проще? Жаль, что этого никто не знает.
Хуан Байцзя (XVII век)
От практического к мистическому
М истическая жизнь китайской традиции непостоянна и текуча. При всем своем полнозвучии личный опыт духовного переживания не обязательно наследуется в последующем поколении, а это значит, что моменты угасания традиции в какой-то период могут встречаться чаще, нежели моменты ее расцвета. Не случайно хроники подчеркивали, что у Конфуция было более двух тысяч учеников, но его последователями стали лишь семьдесят два. И это — у самого великого учителя Китая, «мудреца, равного Небу»! В этом непостоянстве тока традиции — ее жизненность, а точнее — жизненная ненавязчивость, ведь каждый должен быть настолько же приобщен к мистической культуре, насколько и свободен от нее. В этом коренится упругая пластичность китайской жизни. Теперь нам несложно понять, почему китайцы в своей практике исходят не столько из абстрактных представлений и правил приличия, сколько из жизненной целесообразности действия. Нравственной праведности здесь не существует, она заменена ритуальным и с какого-то времени уже врожденным практицизмом.
Как ни странно, такой практицизм отнюдь не отрицает внутренней, символической глубины действия. Наоборот, в китайской традиции всякому деянию предшествует духовное бытие (как сказали бы сами китайцы — образ), а сама по себе духовная практика исключительно конкретна, воплощаема, несет высшую целесообразность и тем самым не отличается (во всяком случае, на вид) от повседневной жизни вообще.
Теперь нам становится понятной, например, одна из самых темных фраз Конфуция, который советовал сначала воплощать внутренний образ своих речей, а потом реализовывать их на практике — «предосуществлять свои речи, а затем следовать сказанному». При этом мудрец не считал зазорным говорить о выгоде наряду с рассуждениями о судьбе и человеколюбии. Отсюда нам становится близка и другая мысль, что боевая практика в Китае потенциально может быть определена и как «эффективно-выгодная», и как «духовно-потаенная», как процесс тренировки тела с реальными боевыми целями, так и способ пустотного самосовершенствования, безотносительно какой-либо цели.
Неудивительно, что осознание некоего внутреннего «предшественника» реальной жизни, данного как жизнь внутриутробная, лишь намеченная, уже замысленная, но еще не осмысленная, становилось критерием высшей ценности и истинности всякого поступка. Внутреннее предшествие становится обязательной и непосредственной чертой каждого акта в китайской культуре. Высшая выгода и целесообразность определяются именно наличием внутренней жизни, как, например, могучее дерево предопределено именно своим семенем, а жизнь ребенка — существованием его родителей. Публичная жизнь в Китае отражала исключительно внутренний ток невидимой жизни, праздность была едина с умопомрачительной, но отнюдь не утомительной работой непривязанно странствующего духа. Отсюда — исток самообнажения собственного природного начала через пейзажную живопись, поиски космических соответствий в боевых искусствах, например, через осознание триграмм, первостихий, небесной триады и вообще «космичности» человека-воина.
Если в древности такой сложный переход от неоформленно-духовного к практическому и конкретному был уделом немногих философов, то к XVII веку осознание мистической жизни, не отличимой от обыденной практики, приходит и в ушу.
Космическая жизнь становится внутренней жизнью человека, а та безболезненно приходит в его повседневное существование. Небо приходит на землю, реализуя свои образы в бытовой, порой малозаметной конкретике.
Так происходит сознательное воплощение боевых искусств в виде «внутренней системы». Как результат — рождаются «внутренние школы» ушу. Нам уже приходилось говорить о том, что понятие «внутренних школ» весьма относительно, когда мы размышляли о классификации китайских боевых искусств. Поэтому здесь остановимся на более конкретных вещах — истории основных внутренних стилей и их базовых постулатах.
Именно с рождением внутренних стилей начинается этап, когда ушу в полной мере обретает свое мистическое содержание, когда оно становится способным передать тот духовный опыт, который некогда присутствовал в даосизме и буддизме. Этому периоду было суждено продлиться не так уж и долго — около трех веков, но и в этот чрезвычайно короткий по историческим меркам отрезок вместилось больше, нежели за предыдущие полторы тысячи лет.
Внутренние стили не просто давали слепок с небесного существования, они и были самой этой духовной жизнью Космоса, проросшей в движениях ушу.
Сколь невероятно сложно не только осознать свою духовную бесконечность, свою природную светлость, но и передавать это переживание другим. На этом стоит все восточное учительствование как неизреченная система великих речей без помощи слов, «бесед и суждений» обо всем, но только не о самом главном, поскольку этому главному суждено извечно ускользать от взора, чтобы возникнуть в душе. К XVII веку ушу научилось не только воспринимать эту форму неизреченного и внеречевого знания, но и столь же парадоксально-пустотным образом передавать ее. Центр китайского мистицизма перемещается в область боевых искусств. Духовный опыт, первоимпульс мудрецов, покинув старые и слишком конформные к тому времени формы неоконфуцианства и буддизма, а еще раньше и даосизма, «вселяется» в новую обитель, используя для ее создания исторически сложившуюся систему боевых искусств. Но уже не для боя и даже не для укрепления «духа, характера и воли», как советует Сунь-цзы, но для совсем иного.
«Путь боевых искусств не отличен от пути Неба. Это путь просветленного духа», — говорил в конце XIX века Сунь Лутан. А это значит: то, что когда-то было целью для бойца (например, победа в бою), становится лишь средством или даже промежуточной ступенью на пути к осознанию духовной традиции нации и мира вообще внутри себя. Именно в это время рождаются многочисленные легенды о том, что практически все великие буддийские святители и даже легендарные правители Хуанди, Фуси и Шэньнун не брезговали боевыми тренировками, создавая целые направления боевых искусств. Прием превращался в «воспоминание» о собственном духовном прошлом, подтверждал не просто небесный исток боевых искусств, но саму святость человеческого, собственного бытия.