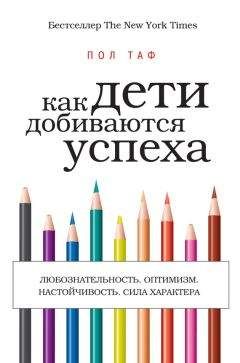И ведь дело не в том, что сама бедность исчезла. Это далеко не так. В 1966 году, на пике войны с бедностью, уровень бедности был чуть ниже 15 процентов; в 2010 году он составлял 15,1 процента. А сейчас уровень бедности среди детей существенно выше. В 1966 году он составлял чуть более 17 процентов. Теперь эта цифра равна 22 процентам, что означает, что от одной пятой до одной четверти американских детей растут в нищете.
Так если бедность сегодня является, по крайней мере, столь же большой проблемой, как и в 1960-х годах, почему мы практически перестали говорить о ней – по крайней мере, публично?
Думаю, ответ на этот вопрос отчасти связан с психологией интеллектуалов, занимающихся общественной деятельностью. Война с бедностью оставила весьма глубокие шрамы на душах хорошо образованных идеалистов, которые ее развязали, создав своего рода посттравматическое стрессовое расстройство у политических аналитиков-зануд.
Вспомните, президент Кеннеди впервые заговорил о том, чтобы положить конец бедности, примерно в то же время, когда пообещал отправить человека на Луну. Начало 1960-х годов было началом эры оптимизма и великих надежд в Вашингтоне, и полеты космических кораблей «Аполлон» оправдывали эти надежды. Они стали величайшим национальным триумфом, воплощая благую весть: если мы как нация целиком сосредоточимся на какой-нибудь проблеме, то сможем разрешить ее.
Вот только проблему бедности мы не разрешили. Некоторые из вмешательств, составлявших войну с бедностью, были эффективными – но огромное их число не давало эффекта. Еще большее количество мер, казалось, причиняет больше вреда, чем блага. А если вы – человек, который верит, что умные люди, работающие при поддержке правительства, в состоянии разрешать большие задачи, то это слишком горькая истина, чтобы ее признать. Слишком больно признавать, что нанести решающий удар по бедности оказалось намного труднее, чем мы предполагали, – и еще больнее признавать, что сорок пять лет спустя мы по-прежнему не очень хорошо понимаем, что же делать.
Примерно в последнее десятилетие случилось еще кое-что, что помогает объяснить, почему исчезли дебаты о бедности: они слились с дебатами об образовании.
Некогда образование и бедность были двумя совершенно раздельными темами в публичной политике. Один разговор вращался вокруг тем «новой математики» и «почему Джонни не умеет читать». И был совершенно другой разговор, о трущобах и голоде, о пособии по безработице и обновлении городов. Но чем дальше, тем больше они становились одним и тем же разговором, и он шел вокруг пропасти в области достижений между богатыми и бедными – вокруг того очень реального факта, что в целом дети, которые растут в неимущих семьях Соединенных Штатов, очень плохо учатся в школе.
У этого слияния несколько причин. Первая из них восходит к «Кривой нормального распределения» – противоречивой книге 1994 года, посвященной IQ и написанной Чарлзом Мюрреем и Ричардом Геррнштейном. Несмотря на то что я и многие другие считаем ошибочным выводом, что расовые различия в тестах достижений с наибольшей вероятностью являются результатом генетических различий между расами, эта книга содержала очень важное новое наблюдение: оценки в школе и результаты тестов достижений являются очень хорошими предсказателями всякого рода результатов в дальнейшей жизни – не только того, насколько далеко вы продвинетесь в учебе и сколько будете зарабатывать, когда ее закончите, но и станете ли вы совершать преступления, будете ли принимать наркотики, женитесь ли вы и разведетесь ли.
«Кривая нормального распределения» показала, что дети, которые хорошо учатся в школе, обычно склонны преуспевать и в жизни, и неважно, из бедной они семьи или из богатой.
И это привело к интригующей идее, той, которая оказалась привлекательной для социальных реформаторов с обоих концов политического спектра: если мы сможем помочь бедным детям усовершенствовать свои академические навыки и академические результаты, они сумеют избежать замкнутого круга бедности посредством собственных способностей и без дополнительных подачек или привилегий.
В конце 1990-х и начале 2000-х годов эта идея набрала силу из-за двух важных феноменов. Одним из них было принятие в 2001 году закона «Ни одного отстающего ребенка». Впервые за всю историю закон обязывал штаты, города и индивидуальные школы собирать детальную информацию о том, как учатся их учащиеся – как функционирует не только ученический контингент в целом, но и его индивидуальные подгруппы: представители меньшинств, неимущие, не владеющие английским языком.
Как только эти числовые данные начали собирать, пропасть в достижениях, которую они отражали, стало невозможно игнорировать или отрицать.
В каждом штате, в каждом городе, на каждом уровне, почти в каждой школе учащиеся из семей с низким доходом учились гораздо хуже, чем учащиеся из среднего класса, – в среднем они отставали по оценкам на два-три балла к тому времени, как оканчивали средние классы школы. И этот разрыв в достижениях между богатыми и бедными становился все больше с каждым годом.
Другим феноменом было появление группы школ, которые, казалось, бросают дерзкий вызов пропасти в достижениях: это школы KIPP и другие того же плана, к примеру, Amistad Academy в Нью-Хейвене, Roxbury Prep в Бостоне и North Star Academy в Ньюарке. Первая волна ошеломительных тестовых результатов, которых помогли своим студентам добиться Дэвид Левин, Майкл Файнберг и другие педагоги, захватила воображение публики. Казалось, что эти учителя придумали надежную, воспроизводимую модель успеха для «трущобных» школ.
Итак, эти три факта сошлись воедино, сформировав мощный силлогизм для людей, которым была небезразлична тема бедности: во-первых, результаты тестов достижений в школе строго соотносились с жизненными результатами, каково бы ни было происхождение учащегося. Во-вторых, дети из бедных семей гораздо хуже справлялись с тестами достижений, чем дети из семей со средним и высоким доходом. И в-третьих, некоторые школы, используя совершенно иную модель, чем традиционные общественные школы, сумели существенно повысить результаты тестов достижений для неимущих детей. Вывод: если бы мы смогли воспроизвести в широких национальных масштабах достижения этих школ, то серьезно ослабили бы влияние, которое оказывает бедность на успех наших детей.
Это был совершенно иной взгляд на бедность, чем тот, который существовал прежде. Он взволновал столь многих людей, включая меня самого, в первую очередь потому, что многое другое не сработало.
Мы пробовали выплачивать дополнительное пособие бедным матерям, мы пробовали раздавать жилищные субсидии, мы пробовали программу Head Start, мы пробовали общественное самоуправление. Но по большей части бедные дети не начинали учиться лучше.
А теперь нам казалось, что если бы мы смогли сделать общественные школы более эффективными – намного более эффективными, – то они смогли бы стать гораздо более мощным инструментом против бедности, чем все, что мы испытывали прежде. Это была преобразующая идея. И результатом этой искры стало новое движение – движение за образовательную реформу.
На заре этого движения его сторонники еще никак не могли решить, в какую сторону они движутся. У них было общее представление – целый ландшафт национальных школ, которые справлялись со своими задачами так же хорошо, как и школы KIPP, – но они расходились по вопросу о том, какие политические механизмы могут лучше всего помочь реализовать это представление. Будут ли это ваучеры? Или национальный учебный план? Или сделать больше уставных школ? Может быть, уменьшить размер классов?
Теперь, десятилетие спустя, реформаторы образования в основном сплотились вокруг одного конкретного вопроса: качества преподавания.
Большинство защитников реформы сошлись на том, что у нас слишком много не дотягивающих до стандарта учителей, особенно в школах очень бедных районов, и единственный способ улучшить результаты учащихся в этих школах – изменить способ найма их учителей, их подготовку, их компенсации и правила увольнения.
Этот аргумент уходит своими интеллектуальными корнями в ряд исследовательских работ, опубликованных в конце 1990-х и в начале 2000-х годов экономистами и статистиками, включая Эрика Ханушека, Томаса Кейна и Уильяма Сандерса. Они утверждали, что возможно идентифицировать с помощью статистического метода, известного как «добавленная стоимость», две различные группы учителей: тех, кто способен регулярно повышать уровень достижений своих учащихся, и тех, чьи студенты последовательно отстают.
Эта идея привела к теории перемен: если неуспевающий ученик из семьи с низким доходом в течение многих лет подряд прикрепляется к «высококачественному» учителю, его тестовые результаты должны последовательно и кумулятивно улучшаться, и спустя три, четыре или пять лет он должен покрыть пропасть в достижениях между ним и его более богатыми сверстниками.