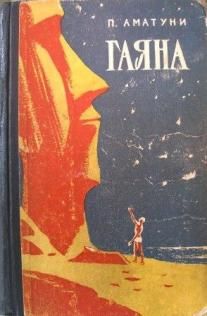— Пожалуйста, — сказал Эхион-лоскутник, — выражайся приличнее. «Раз так, раз — этак», — как сказал мужик, потеряв пегую свинью. Чего нет сегодня, то будет завтра: в том вся жизнь проходит. Ничего лучше нашей родины нельзя было бы найти, если бы жители здесь были людьми. Но не она одна страдает в нынешнее время. Нечего привередничать: все под одним небом живем. Попади только на чужбину, так начнешь уверять, что у нас свиньи жареные разгуливают. Вот, например, будут нас угощать на праздники три дня подряд превосходными гладиаторскими играми; выступит труппа не какого-нибудь ланисты, а несколько настоящих вольноотпущенников. И Тит наш — широкая душа и горячая голова: так или этак, а ублажить сумеет, уж я знаю: я у него свой человек. Он ничего не делает вполсилы; оружие будет дано первостатейное; удирать — ни-ни; сражайся посередке, чтобы всему амфитеатру видно было; средств у него хватит: 30 000 000 сестерциев ему досталось, как отец его помер. Если он и 400 000 выбросит, мошна его даже и не почувствует, а он увековечит свое имя. У него уже есть несколько парней, и женщина-эсседария, и Гликонов казначей, которого накрыли, когда он забавлялся со своей госпожой. Увидишь, как народ разделится: одни будут за ревнивца, другие за любезника. Ну и Гликон! Грошовый человечишка! Отдает зверям казначея. Это значит выставить себя на посмешище. Разве раб виноват? Делает, что ему велят. Скорей бы следовало посадить быку на рога эту ночную вазу. Но так всегда: кто не может по ослу, тот бьет по седлу. И как мог Гликон вообразить, что из Гермогенова отродья выйдет что-нибудь путное? Тот мог бы коршуну на лету когти подстричь. От змеи не родится канат. Гликон, один Гликон внакладе: на всю жизнь пятно на нем останется, и разве смерть его смоет! Но всякий сам себе грешен. Да вот еще: есть у меня предчувствие, что Маммея нам скоро пир задаст, — там-то уж и мне, и моим по два динария (достанется). Если он сделает это, то Норбану уже не бывать любимцем народа: вот увидите, что он теперь обгонит его на всех парусах. Да и вообще, что хорошего сделал нам Норбан? Дал гладиаторов дешевых, полудохлых, — дунешь на них, и повалятся; и бестиариев видывал я получше; всадники, которых он выставил на убой, — точь-в-точь человечки с ламповой крышки! Сущие цыплята: один — увалень, другой — кривоногий; а тертиарий-то! За мертвеца мертвец с подрезанными жилами. Пожалуй, еще фракиец был ничего себе: дрался по правилам. Словом, всех после секли; а вся публика кричала: «Наддай!» Настоящие зайцы. Он скажет: «Я вам устроил игры», а я ему: «Я мы тебе хлопаем». Посчитай и увидишь, что я тебе больше даю, чем от тебя получаю. Рука руку моет
XLVI.
— Мне кажется, Агамемнон, ты хочешь сказать: «Чего тараторит этот надоеда?» Но почему же ты, наш записной оратор, ничего не говоришь? Ты не нашего десятка, вот и смеешься над речами бедных людей. Мы-то знаем, что ты от большой учености свихнулся. Но это не беда. Уж когда-нибудь я тебя уговорю приехать ко мне на виллу, посмотреть наш домишко; найдется чем перекусить: яички, курочка. Хорошо будет, хоть в этом году погода и испортила весь урожай. А все-таки разыщем, чем червячка заморить. Потом и ученик тебе растет — мой парнишка. Он уже арифметику знает. Вырастет, к твоим услугам будет. И теперь все свободное время не поднимает головы от таблиц; умненький он у меня и поведения хорошего, только очень уж птицами увлекается. Я уже трем щеглам головы свернул и сказал, что их ласка съела. Но он нашел другие забавы и охотно рисует. Кроме того, начал он уже греческий учить, да и за латынь принялся неплохо, хотя учитель его слишком уж стал самодоволен, не сидит на одном месте. Приходит и просит дать книгу, а сам работать не желает. Есть у него и другой учитель, не из очень ученых, да зато старательный, учит и тому, чего сам знает. Он приходит к нам обыкновенно по праздникам и всем доволен, что ему ни дай. Недавно я купил сыночку несколько книг с красными строками: хочу, чтобы он понюхал немного законы для ведения домашних дел. Занятие это хлебное. В словесности он уже достаточно испачкался. Если ему ему опротивеет, я его какому-нибудь ремеслу обучу: отдам, например, в цирюльники, в глашатаи или, скажем, в стряпчие. Это у него одна смерть отнять может. Каждый день я ему твержу: «Помни, первенец: все, что учишь, для себя учишь. Посмотри на Филерона, стряпчего: если бы он не учился — давно бы с голоду подох. Не так еще давно кули на спине таскал, теперь с самим Норбаном потягаться может. Наука — это клад, и искусный человек никогда не пропадет».
XLVII.
В таком роде шла болтовня, пока не вернулся Трималхион. Он вытер пот с лица, вымыл в душистой воде руки и сказал после недолгого молчания:
— Извините, друзья, но у меня уже несколько дней нелады с желудком, врачи теряются в догадках. Облегчили меня гранатовая корка и хвойные шишки в уксусе. Надеюсь, теперь мой желудок опять за ум возьмется. А то как забурчит у меня в животе, подумаешь, бык заревел. Если и из вас кто надобность имеет, так пусть не стесняется. Никто из нас не родился запечатанным. Я лично считаю, что нет большей муки, чем удерживаться. Этого одного сам Юпитер запретить не может. Ты смеешься, Фортуната? А кто мне ночью спать не дает? Никому в этом триклинии я не хочу мешать облегчаться; да и врачи запрещают удерживаться, а если кому потребуется что-нибудь посерьезнее, то за дверьми все готово: сосуды, вода и прочие надобности. Поверьте мне, ветры попадают в спинной мозг и производят смятение во всем теле. Я знавал многих, которые умерли оттого, что не решались в этом деле правду говорить.
Мы благодарили его за снисходительность и любезность и усиленной выпивкой старались скрыть душивший нас смех. Но мы не подозревали, что еще не прошли, как говорится, и полпути до вершины всех здешних роскошеств. Когда со стола, под звуки музыки, убрали посуду, в триклиний привели трех белых свиней в намордниках и с колокольчиками на шее. Номенклатор объявил, что это — двухлетка, трехлетка и шестилетка. Я вообразил, что пришли фокусники, и свиньи, как это бывает в цирках, станут выделывать какие-нибудь штуки. Но Трималхион рассеял недоумение:
— Которую из них вы хотите сейчас увидеть на столе? — спросил он, потому что петухов, Пенфеево рагу прочую дребедень и мужики изготовят; мои же повара привыкли целого быка зараз на вертеле жарить.
Далее он велел позвать повара и, не ожидая нашего выбора, приказал заколоть самую старшую.
— Ты из которой декурии? — повысив голос, спросил он.
— Из сороковой, — отвечал повар.
— Тебя купили или же ты родился в доме?
— Ни то, ни другое, — отвечал повар, — я достался тебе по завещанию Пансы.
— Смотри же, хорошо приготовь ее. А не то я тебя в декурию посыльных разжалую.
Повар, познавший таким образом могущество своего господина, повел свою жертву на кухню.
XLVIII.
Трималхион же, любезно обратившись к нам, сказал:
— Если вино вам не нравится, я скажу, чтобы переменили; а вас прошу придать ему вкус своей беседой. По милости богов я ничего не покупаю, а все, от чего слюнки текут, произрастает в одном моем пригородном поместье, которого я даже еще и не видел. Говорят, оно граничит с Террациной и Тарентом. Теперь я хочу соединить свою землицу с Сицилией, чтобы, если мне вздумается в Африку проехаться, все время по своим водам плавать. Но расскажи нам, Агамемнон, какую такую речь ты сегодня произнес? Я хотя лично дел и не веду, тем не менее для домашнего употребления красноречию все же обучался: не думай, пожалуйста, что я пренебрегаю учением. Теперь у меня две библиотеки: одна греческая, другая латинская. Скажи поэтому, если любишь меня, сущность твоей речи.
— Богатый и бедняк были врагами, — начал Агамемнон.
— Бедняк? Что это такое? — перебил его Трималхион.
— Остроумно, — похвалил его Агамемнон и изложил затем содержание не помню какой контроверсии.
— Если это уже случилось, — тотчас же заметил Трималхион, — то об этом нечего и спорить. Если же этого не было — тогда и подавно.
Это и многое другое было встречено всеобщим одобрением.
— Дражайший Агамемнон, — продолжал между тем Трималхион, — прошу тебя, расскажи нам лучше о странствованиях Улисса, как ему Полифем палец щипцами вырвал, или о двенадцати подвигах Геркулеса. Я еще в детстве об этом читал у Гомера. А то еще видал я Кумскую Сивиллу в бутылке. Дети ее спрашивали: «Сивилла, чего тебе надо?», а она в ответ: «Помирать надо».
XLIX.
Трималхион все еще разглагольствовал, когда подали блюдо с огромной свиньей, занявшее весь стол. Мы были поражены быстротой и поклялись, что даже куренка в такой небольшой срок вряд ли зажарить, тем более что эта свинья нам показалась по величине превосходившей даже съеденного незадолго перед тем вепря. Но Трималхион все пристальнее присматривался к ней:
— Как? Как? — вскричал он, — свинья не выпотрошена? Честное слово, не выпотрошена! Позвать, позвать сюда повара!