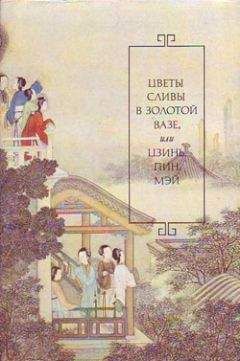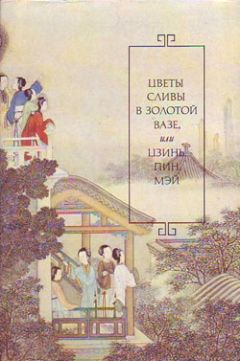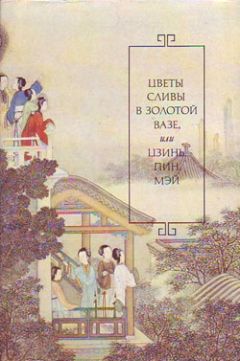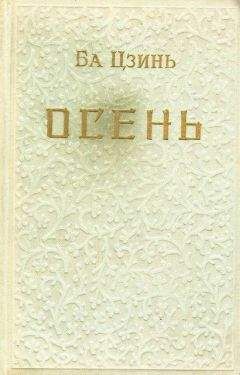— После вина да перед чаем? — удивилась сводня. — Да разве он пойдет в этакую пору! Я уж лучше завтра с утра пораньше к нему наведаюсь.
— Только смотрите не забудьте, мамаша!
— Да что ты! Можно ль свое-то дело упустить?!
Старая Ван без денег шагу не ступала, а тут получила серебряную шпильку. От угощения у нее заиграл румянец.
Проводив старуху, Цзиньлянь легла, укрывшись благоухающим одеялом, на котором красовалась вышитая мандаринская уточка.[170] Но ей не спалось. Она поправляла фитиль в серебряном светильнике, то и дело вздыхала и ворочалась с боку на бок.
Да,
Этой ночью не раз
прикасалися к струнам руки —
Одинокой тоской
истерзали сердце звуки.
Тогда Цзиньлянь взяла лютню и запела на мотив «Спутался шелк»:
Душу я тебе, хлыщу, открыла,
Благовонья тонкие курила
И на память волосы дарила…
Ложе страсти я с тобой делила!
И тайком обманывала мужа,
Пересудов, сплетен не боялась.
Пролита вода — ее из лужи
Вычерпать не просто оказалось.
Разве можешь ты мне изменить? —
Легче рыбку в роще изловить.
Думала ль я, что найдешь другую!
Душит гнев меня, скорблю, горюю.
К пологу припала и тоскую,
Вспоминаю прошлое в бреду я.
Так решу я, этак ли прикину —
Не пойму, за что меня покинул.
Я пишу, а ты молчишь доныне…
Знать бы, по какой такой причине?
Если ты любовь мою презрел,
Месть Небес грядет тебе в удел!
Серебро ль твое меня прельщало? —
Страсть твоя, проворство искушало:
Мотыльком к цветку летел, бывало,
Ароматом я тебя встречала.
Мотылек мой, ты напился сока,
Улетел навеки… Как жестоко!
Холодно, тоскливо, одиноко.
Боли ни предела нет, ни срока.
Рок нас пожелал соединить,
Но крепка ль связующая нить?
Места я себе не нахожу,
Время безрассудно провожу:
То в тоске по комнате брожу,
То ничком лежу, дрожу, тужу.
Друг без друга не были мы дня,
Так зачем покинул ты меня?
Если пожелал ты, мотылек,
На другой перепорхнуть цветок,
Отыщу владыки моря храм,
На тебя там жалобу подам.
Так, ворочаясь с боку на бок, кое-как скоротала она бессонную ночь, а едва рассвело, позвала Инъэр:
— Ступай, узнай, была ли тетушка Ван у господина или нет.
Инъэр ушла.
— Тетушка давно у господина, — вскоре доложила она.
* * *
А пока скажем о старухе. Поднялась она рано, умылась, причесалась и направилась к Симэнь Цину.
— Его милость дома? — спросила она привратника.
— Не знаю, — послышался ответ.
Старуха встала у ворот напротив. Однако ждать ей пришлось недолго. Немного погодя появился приказчик Фу и стал открывать лавку. Ван бросилась прямо к нему.
— Позвольте узнать, дома ли ваш господин? — спросила она, отвешивая поклон.
— По какому такому делу, почтенная тетушка, вам понадобился мой господин? — спросил Фу и добавил: — Хорошо, что меня встретили. Другие вам ничего бы толком не сказали. Хозяин вчера справлял день рождения. То дома с друзьями пировали, а под вечер всей компанией в веселый квартал отбыли. И до сих пор нет. Идите-ка туда. Там его и отыщите.
Старуха поблагодарила приказчика и направилась к управе. Она миновала Восточную улицу и очутилась у переулка «кривых террас». Тут-то она и заметила вдали Симэнь Цина. Он ехал верхом с востока, сопровождаемый двоими слугами. От вина у него рябило в глазах и качало в седле со стороны на сторону.
— Да, лишнего вы заложили, ваша милость, — громко крикнула Ван и остановила лошадь.
— Мамаша Ван? — пробормотал хмельной Симэнь. — В чем дело?
Старуха зашептала ему на ухо.
— Да, да, мне слуга говорил. Знаю, сердится. Ну вот, к ней и поеду.
Так, слово за слово, сами того не заметив, оказались они у дома Цзиньлянь. Первой вошла сводня.
— Радуйтесь, сударыня! — воскликнула она, обращаясь к хозяйке. — Стоило старухе взяться, как и часу не прошло, а его милость уж ждет у ворот.
Цзиньлянь приказала Инъэр немедленно прибрать комнаты, а сама вышла встретить Симэня.
Долгожданный гость, полупьяный, обмахиваясь веером, проследовал в дом и поклонился хозяйке.
— Давно не заглядывал! — Цзиньлянь поклонилась в ответ. — Бросил и на глаза не показываешься. Впрочем, до меня ль тебе! К новой госпоже прилепился — не оторвешь. А меня-то заверяли, будто ваша милость никогда не изменит…
— Какая новая госпожа? Что за вздор! — воскликнул Симэнь. — Я дочь замуж выдавал, потому и прийти не мог.
— Да будет уж врать-то! Новых услад ищешь, вот и рыщешь повсюду. Пока жизнью не поклянешься, ни за что не поверю.
— Пусть меня покроют язвы величиною с чашку, — начал Симэнь, — три, нет, пять лет изводит желтуха, пусть во мне копошатся черви по коромыслу в длину, если я изменил тебе…
— Ах, изменник негодный! Ну причем тут чашки и коромысла!
С этими словами Цзиньлянь сорвала с Симэня новую четырехугольную шапку с кисточкой и бросила ее на пол.
— Ты обижалась, не хочет, мол, старуха его милость пригласить, — вмешалась Ван, поднимая шапку и кладя ее на стол, — а сама шапку срываешь. Чтобы голова простыла, да?
— Чтоб он совсем замерз, изменник! Ни капельки не пожалею.
Цзиньлянь выхватила у него золотую шпильку и стала разглядывать. Шпилька хранила следы масла для волос, на ней выделялись выгравированные строки:
«Конь с уздечкой золотой
Ржет средь трав благоуханных,
В башне яшмовой, весной,
Я в цветах, от счастья пьяный».
Шпилька принадлежала Юйлоу,[171] но Цзиньлянь решила, что ее подарила Симэню певичка, а потому она спрятала ее себе в рукав.
— Еще будешь клясться, не изменял? Ее шпильку носишь, а мою куда девал?
— Выпил как-то лишнего, ехал верхом, ну и упал с лошади. Шапка слетела, волосы рассыпались. Искал-искал, так и не нашел.
— Ишь ты! Напился! Глаза застило! Да так, что аж шпильку не нашел. Да тебе младенец не поверит!
— Не сердись, моя дорогая, — вмешалась старуха. — Его милость вдаль зорки — разглядит, как за городом муха оправляется, а у своих ворот на слона натыкается.
— От одной не отделаешься, а тут другая с прибаутками лезет, — заметил Симэнь.
Тут взор Цзиньлянь привлек позолоченный сычуаньский веер, которым обмахивался Симэнь. Она вырвала его из рук гостя и поднесла к свету. На красных косточках, которые соединяла золотая бляха, Цзиньлянь, будучи искушенной в любовных интригах, тотчас же нашла отпечатки зубов. Значит, та чаровница поднесла ему и веер, рассудила Цзиньлянь, и, не говоря ни слова, переломила его пополам. Симэнь хотел было ее удержать, но от дорогого опахала остались одни обломки.
— Это подарок моего друга Бу Чжидао,[172] — пояснил Симэнь. — Третьего дня преподнес, а ты сломала.
Цзиньлянь не унималась, пока Инъэр не подала чай. Хозяйка велела ей поставить поднос и низко поклониться гостю.
— Ну, повздорили и довольно, — заметила старуха. — К чему зря время тратить? Я на кухню пойду.
Цзиньлянь наказала падчерице накрыть в комнате стол, чтобы отпраздновать день рождения Симэня. Вскоре на столе появились вино, а потом жареные куры и гусь, свежая рыба, мясо, подливки, деликатесы из фруктов и прочая снедь.
Цзиньлянь достала из сундука подарки и разложила перед Симэнем. Рядом с черными атласными туфлями на подносе лежали темно-коричневые штаны для верховой езды. Их украшала бахрома — непременный знак согласия и любви, на коленях пестрели цветы, а с боков выделялись сосна, бамбук и слива-мэй в цвету — друзья, стойко переносящие зимнюю стужу. Отделанный лиловыми нитями пояс на блестящей подкладке из зеленой луской тафты был расшит благовещими облаками и изображением восьми сокровищ,[173] а розовый нагрудник источал благоухание зашитых внутри трав. Среди подарков лежала шпилька в виде двуглавого лотоса с вырезанным четверостишием:
«Лотос ажурный, двуглавый,
Милому я подарила.
И никогда пусть лукаво
С ним не расстанется милый!»
Довольный подарками Симэнь обнял и поцеловал Цзиньлянь.
— Вот, оказывается, какая умница и умелица! Прямо на редкость!
Хозяйка велела Инъэр подать кувшин вина. Наливая кубок, Цзиньлянь низко поклонилась Симэню. Была до того грациозна, что напоминала то прямую стройную свечу, стоящую на подсвечнике, то от одного дуновения ветерка плавно колышущуюся гроздь цветов.
Симэнь, не мешкая, привлек ее к себе, и они сели рядышком, угощая друг друга и меняясь кубками. С ними за компанию пировала и старая Ван. Она не ушла, покуда не осушила несколько кубков, отчего лицо ее залилось густым румянцем. Инъэр заперла за ней ворота, а сама удалилась на кухню, оставив возлюбленных наедине.