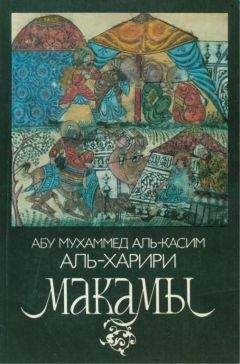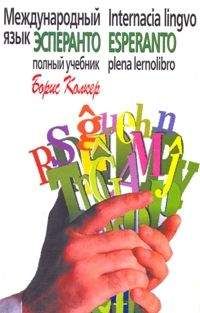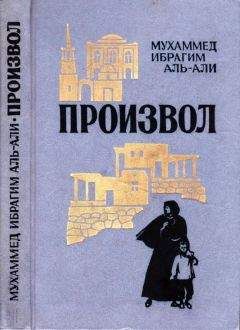Шейх в ответ:
— Нет, пусть тебя покарает Аллах, пусть будет язык твой весь в волдырях, пусть кровь забурлит, как крутой кипяток, и к цирюльнику кинешься ты со всех ног. А цирюльник тот будет с ланцетом тупым, неопрятный, сопливый, с характером злым, он ручищею грязной будет вены тебе взрезать и громко при этом ветры пускать!
Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:
— Увидел тут юноша, что старика не проймешь, как закрытую дверь головой не пробьешь. Решил он спора с ним не вести и как можно скорее прочь уйти. Понял тут шейх, что с юнцом обошелся он слишком жестоко и сам заслуживает упрека. Захотел он с ним помириться и от алчности своей отступиться. Но больной уж и слышать не желал о леченье и только в бегстве видел спасенье. И снова пошли они спорить и пререкаться, бранью друг друга осыпать и ругаться, при этом юноша сильно руками махал, так что одежду свою порвал. Тут зарыдал он, оплакивая свое невезение — и на платье дыры, и в ушах оскорбления. Кинулся шейх его утешать, раскаиваясь, что язык не сумел сдержать, но уговоры не помогали и лишь новые слезы из глаз юнца исторгали. Жизнь свою в жертву клялся шейх принести, лишь бы горести от него отвести. Потом сказал ему:
— Неужто плакать не надоело? Ты терпеть не приучен — это не дело! Разве не слышал ты слово «прощение»? Ведь об этом сказано в стихотворении:
Ты гнева огонь гаси своей незлобивостью.
Поверь, что незлобие — ума украшение.
Научит оно прощать и жизнь усладит твою:
Ведь плод самый сладостный на свете — прощение.
Ответил юноша:
— Если б ты знал все мои несчастья, то проявил бы больше участья. Но чья кожа чиста — разве тот понимает, как покрытый коростою страдает?
Потом он как будто голосу разума внял, рыданья свои унял, на рваный рукав указал и сказал:
— На себе я ношу все свои пожитки, так возмести же мои убытки.
Шейх ответил:
— Увы, ничем я тебя не ссужу, концы с концами я еле свожу. Взывай об участье к тем, кто богаче, — быть может, тогда тебе улыбнется удача.
Тут старик присутствующих поднял, к щедрости их призвал и, ряды обходя, такие стихи повторял:
Клянусь я Каабою[334] святой,
Во всех концах земли воспетой,
Куда паломники толпой
Стекаются, в ихрам[335] одеты:
Будь вдоволь денег у меня —
Не взял бы в руки я ланцета
И о деяниях моих
Гремела слава бы по свету.
Тогда бы юноша-бедняк
Не испытал обиды этой,
Услышал бы из уст моих
Не окрик злой — слова привета.
Увы, у яростной судьбы
Нисколько состраданья нету!
Так на кого нам уповать,
Коль голодны мы и раздеты?
Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:
— Был я первым, кого растрогала шейха мольба и опечалила злая его судьба. Два дирхема[336] я ему протянул и сказал:
— Это тебе, даже если ты и солгал.
Шейх обрадовался первому подаянию и счел его добрым предзнаменованием. И правда, дирхемы к нему потекли рекой — каждый жертвовал щедрой рукой. Вскоре наполнилась его сума — как видно, лицом к нему обернулась удача сама. Возликовал он при виде богатства такого и сказал, к юнцу обращаясь снова:
— Урожая этого и ты посадил семена, значит, доля, твоя с моею равна. Давай же доходы свои измерим и по-братски разделим.
На две равные кучки монеты они разложили и, друг другом довольные, меж собою мир заключили. Увидев, что закончено дело, к шейху я подошел несмело и сказал:
— Лихая болезнь на меня напала, в жилах вся кровь огнем запылала. Пришел я помощи у тебя попросить — не можешь ли ты мне кровь отворить?
Он пристальный взор на меня устремил и, голос понизив, проговорил:
Не правда ли, славную сцену с сыночком мы разыграли?
Притворством своим и обманом мы денег насобирали —
Как будто бы вдруг из пустыни в райские кущи попали.
Подобного мне витию ты слышал в жизни едва ли!
Поверь, что мои заклинанья любые замки открывали,
А речи мои колдовские любые умы пленяли.
Я знаю, Александрийца[337] еще до меня прославляли,
Но он словно мелкий дождик, что шел перед ливнем вначале.
Заключил аль-Харис ибн Хаммам:
— Эти стихи вывели правду наружу, и я признал известного ас-Серуджи. Я стал порицать его, что нечестно живет и сыну пример дурной подает. Отмахнулся он от моих упреков и слушать не пожелал намеков. И лишь промолвил, не скрывая укора:
— Разутому всякая обувь впору.
Вид оскорбленный на себя напустил и вместе с сыном прочь поспешил.
Перевод В. Кирпиченко
Харамийская макама
(сорок восьмая)
Передавал аль-Харис ибн Хаммам слова Абу Зейда Серуджийского[338]: «С тех пор как верблюда я оседлал и прощальный взгляд от родных оторвал, стремился я страстно увидеть Басру[339], потому что во многих книгах читал и от путешественников слыхал, что науки в том городе процветают, красоты взор ублажают, а святыни душу привлекают. Стал я усердно Аллаха просить, чтобы помог он мне на басрийскую землю ступить, в городе Басре расположиться, чудесными видами насладиться.
Когда же случилось попасть мне в Басру, я понял, что пыл мой не был напрасным:
Сей город — для взоров людских утешение:
Манит чужеземца и дарит забвение.
Однажды я вышел, когда солнце еще не вставало, но краска ночи уже слиняла, а петушиное пенье рассвет возвещало. Мне хотелось по городу побродить — душу повеселить. Кружил я по улицам и переулкам, сворачивал в закоулки, пока не вышел к большим домам, где обитает племя бану харам. Дворы в том квартале широкие, постройки красивые и высокие, бассейнов с чистой водою много, и к мечети протоптана дорога: людей различных там встретишь, их качества редкостные приметишь.
И чего только нет в этом славном квартале,
Удивительней место увидишь едва ли.
Там соседи найдутся на разные вкусы:
Есть отважные духом, есть слабые трусы.
Тот стихами Корана навеки пленился —
Этот голосу струн навсегда покорился.
Тот для мысли своей ищет путь воплощенья —
Этот жаждет богатству найти примененье.
Кто прилежно жует, кто усердно читает —
Или челюсти, или глаза утомляет.
Там беседа ученая за полночь длится —
Тут поет, словно птица, красотка-певица,
Кто учения сладостный плод пожинает,
Кто, с деревьев срывая, плоды пожирает.
Можешь там приобщиться к мужам богомольным,
Можешь вдосталь упиться напитком крамольным.
Можешь там обрести и пристойного друга,
И такого, что чашу пускает по кругу.
Целый день по улицам я скитался, красотами любовался. Когда же солнце склонилось к закату, я увидел мечеть, убранную богато. Но самым лучшим ее украшением были люди, достойные уважения, — ученые этой земли; сидели они в мечети и о грамматике спор вели. К ним поближе решил я расположиться — не для того, чтобы к мудрости приобщиться, а чтобы тучу их щедрости заставить дождем пролиться.
Но тут прозвучал муэдзина призыв, все пошли на молитву, спор прекратив, в ножны мечи вложив. Встали все по местам, вышел вперед имам[340], и меня отвлекло послушание от добывания пропитания, а земные поклоны — от поисков богачей, к беднякам благосклонных.
Когда же люди собирались пойти домой, выполнив долг священный свой, выступил вдруг человек средних лет, солидного вида, красиво одет и обратился к собранью учтиво с такою речью красноречивой:
— О соседи, вы ближе мне, чем родня, ваши жилища — прибежище для меня, с вами в отчий дом превратилась чужбина, как для Мухаммеда — Медина[341]. Знаете ли, что платье благочестивых деяний лучше самых роскошных одеяний, что в этом мире лучше быть без одежды, чем на будущий мир потерять надежду, что вера — самый мудрый совет, что в ней одной — направляющий свет? Наставник достоин уважения, как и тот, кто просит его наставления. Твой брат настоящий — кто тебя укоряет, а не тот, кто всегда извиняет. Тот истинный друг, кто правду не скроет, а не тот, кто ошибки твои покроет.
И ответили ему присутствующие:
— О любящий друг, о друг наш любимый! Желание наше неутолимо: раскрой нам смысл твоих загадочных слов, сними с них искусно расшитый покров. Скажи, что ты хочешь от нас, — и просьбу твою мы исполним тотчас. Клянемся тем, кто нам дружбу твою подарил и нами семью тебе заменил, мы поможем тебе, чем сумеем, — ни советов, ни денег не пожалеем.
Он ответил:
— Пусть Аллах за добро вас наградит и от зла оградит! Не исходит из ваших душ кривды туман, не грозит собеседникам вашим ложь и обман. Не разочаруется в вас тот, кто в чем-то сомневается, — любая тайна вам открывается. Я скажу вам о том, что́ грудь мне терзает и терпенье мое истощает. Когда вы услышите об этом, помогите, прошу вас, мне добрым советом.