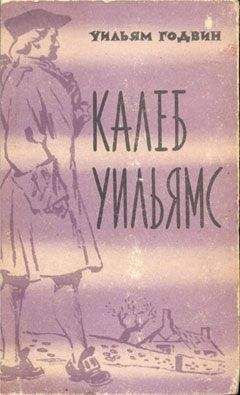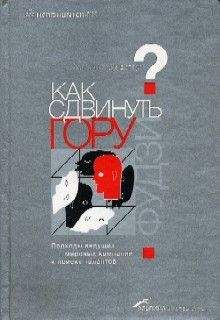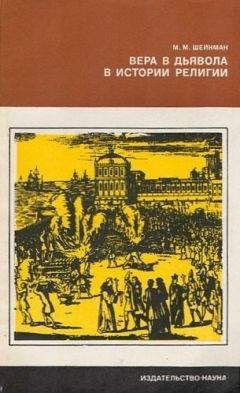Мистер Тиррел решил оказывать поддержку всем членам семьи этого своего подчиненного, пользовавшегося его благосклонностью. У Хоукинса был сын, парень лет семнадцати, приятной внешности, с румяным лицом, живой и смышленый. Юноша этот был особенным любимцем отца, которого, казалось, ничто так не заботило, как будущность сына. Мистер Тиррел, встретив его раза два-три, взглянул на него одобрительно, и юноша, питавший склонность к охотничьим забавам, стал иногда ходить с ним на охоту и не раз проявлял в присутствии сквайра свою ловкость и находчивость. В один прекрасный день он был особенно в ударе, и мистер Тиррел, не долго думая, предложил отцу отпустить юношу к нему в доезжачие, до того как ему подыщут более выгодную должность в поместье.
Это предложение было встречено Хоукинсом с явными признаками огорчения. Он смущенно попросил извинения, что не может принять предложенную милость, сказал, что мальчик полезен ему самому, и выразил надежду, что его честь не станет настаивать на том, чтобы лишить его помощи сына. Для всякого другого, кроме мистера Тиррела, такие доводы, вероятно, оказались бы достаточными. Но об этом джентльмене уже неоднократно говорилось, что раз он решился на какую-нибудь меру, даже самую незначительную, то еще не было случая, чтобы он впоследствии отказался от нее. Возражения только усиливали настойчивость и упорство, с которыми он добивался того, к чему перед тем был почти равнодушен. Сначала он как будто принял извинения Хоукинса добродушно и счел их вполне разумными. Но потом, каждый раз как он встречался с юношей, желание взять его к себе на службу у него возрастало, и он не раз повторял отцу о своем расположении к его сыну. Наконец он заметил, что юноша не принимает больше участия в его любимых охотничьих забавах, и заподозрил в этом намерение воспрепятствовать его замыслам.
Задетый за живое этим подозрением, которое человек с характером мистера Тиррела должен был проверить без промедления, он послал за Хоукинсом, чтобы переговорить с ним.
– Хоукинс, – с досадой начал он, – я тобой недоволен. Я говорил тебе два или три раза о твоем сыне, которого желаю облагодетельствовать. Что за причина, сударь, что ты, по-видимому, не чувствуешь благодарности ко мне за это и противишься моей доброте? Ты должен бы знать, что со мной шутки плохи. Я не люблю, чтобы мои милости отвергались такими людьми, как ты. Я сделал тебя тем, что ты есть, а если захочу, могу сделать еще более беспомощным и несчастным, чем ты был, когда я тебя подобрал. Берегись!
– Не в обиду будь сказано вашей милости, – отвечал Хоукинс, – вы были для меня добрым господином, и я скажу вам всю правду. Надеюсь, вы не погневаетесь на меня. Этот мальчик – мой любимец, мое утешение и опора моей старости.
– Так что ж из этого? Разве это причина, чтобы мешать его преуспеянию?
– Умоляю вас, ваша милость, выслушайте меня. Может быть, я пристрастен в этом деле, но что поделаешь… Отец мой был священником. Все в нашей семье вели достойную жизнь, и я не могу примириться с мыслью, что мой бедный мальчик пойдет в услужение. Что до меня, то я не вижу никакого толку в слугах. Не знаю, ваша честь, но мне думается, – для меня было бы мало радости, если б Леонард стал таким, как они. Да простит мне господь, если я несправедлив к ним. Но ведь это для меня самое дорогое дело. Я не в силах рисковать благополучием моего бедного мальчика, когда так легко, с вашего разрешения, уберечь его от зла. Сейчас он благоразумен и прилежен и, не будучи ни дерзок, ни застенчив, знает себе цену. Я понимаю, ваша милость, что это очень безрассудно так говорить с вами, но ваша милость были мне добрым господином, и я не смею вам лгать.
Тиррел выслушал всю эту речь молча, потому что был слишком удивлен, чтобы проронить слово. Если бы молния ударила у самых его ног, и тогда он не испытал бы большего изумления. Он и раньше думал, что Хоукинс так безумно любит сына, что не в силах отпустить его от себя, но у него никогда не было ни малейшего представления о том, что он узнал теперь.
– Ого-го, так ты джентльмен, вот оно что! Нечего сказать, хорош джентльмен! Твой папенька был священником. Вся ваша семья слишком хороша, чтобы идти ко мне в услужение. Ах ты, бессовестный негодяй! Да затем ли я подобрал тебя, когда мистер Эндервуд прогнал? Отогрел змею на своей груди! Боишься, что у сынка барские манеры испортятся, что он уронит свое достоинство и привыкнет слушаться приказаний? Подлый мужик! Прочь с глаз моих! Можешь быть уверен: я на своей земле джентльменов не потерплю. Долой их, с корнями и ветками, со всеми пожитками! Слышишь, сударь! Завтра утром приведи своего сына и проси у меня прощения, или, даю тебе слово, я сделаю тебя таким несчастным, что ты пожалеешь о том, что родился.
Такое обращение было слишком сильным испытанием для терпеливого Хоукинса.
– Мне нет надобности приходить к вам снова по этому делу, ваша честь. Я уже принял решение, и время не изменит его. Очень сожалею, что прогневал вашу милость, и знаю, что вы можете навлечь на меня немало бед. Но надеюсь, вы не будете так бессердечны, чтобы погубить отца за любовь к своему ребенку, если даже эта любовь заставляет его поступать неразумно. Ничего не поделаешь, ваша честь. Поступайте как вашей милости будет угодно. Недаром говорится, что даже у самого бедного негра есть что-нибудь, с чем он не хочет расстаться. Пусть я потеряю все, что имею, и стану поденщиком, – да, если понадобится, и сын мой тоже, – но я не сделаю из него слуги для джентльмена.
– Так, так, приятель, отлично! – отвечал Тиррел в бешенстве. – Можешь быть уверен, я тебя не забуду, я тебе пособью спесь. Проклятье! Так вот до чего дошло! Мошенник, обрабатывающий какие-то сорок акров, смеет оскорблять владельца поместья! Я тебя в землю вгоню! И вот тебе мой совет, негодяй: запри свой дом и беги так, будто сам дьявол гонится за тобой по пятам. Счастье твое, если я не догоню тебя и ты унесешь свою шкуру в целости. Ни одного дня не потерплю такого бездельника на своей земле, хотя бы мне обещали за это все сокровища Индии.
– Не торопитесь, ваша честь, – гневно ответил Хоукинс. – Я надеюсь, вы одумаетесь и сами увидите, что я ни в чем не виноват. Ну, а если нет, знайте, что если есть зло, которое вы можете мне причинить, так есть и такое, которое сделать не в вашей власти. И пусть я простой труженик, ваша честь, а все-таки человек. Да и ферма моя в аренде, и я оттуда не уйду. А закон, надо думать, найдется и для бедняка, как для богача.
Мистер Тиррел, не привыкший, чтобы ему противоречили, был до последней степени возмущен смелостью и вольнодумством Хоукинса. Не было ни одного арендатора, по крайней мере в его поместье, с такими скромными, как у Хоукинса, средствами, которого сплоченная политика землевладельцев и к тому же властный и неукротимый нрав мистера Тиррела не могли бы удержать от поступков, заключающих в себе открытый вызов.
– Превосходно, черт меня побери! Будь я проклят, если есть еще другой такой молодец. Так ферма у тебя в аренде, у тебя, вот как! Ты говоришь, не уйдешь? Хорошенькие дела пойдут, если аренда будет защищать таких субъектов, как ты, от хозяина владения! Хочешь померяться силами? Отлично, любезный, отлично. Рад от всей души. Раз уж дошло до этого, так мы тебе покажем несколько занятных штучек, прежде чем покончим с этим делом. А теперь прочь с глаз моих, негодяй! Мне больше тебе нечего сказать. И не смей никогда переступать порог моего дома.
Хоукинс в этом деле был (выражаясь языком света) виновен в двойной неосторожности. Он разговаривал со своим лендлордом более независимо, чем это разрешалось общественным устройством и практикой этой страны подвластному человеку. Кроме того, дав увлечь себя негодованию, он должен был предвидеть последствия. Совершенным безумием с его стороны было думать о том, чтобы тягаться с лицом, обладающим такими средствами и положением, как Тиррел. Это было равносильно борьбе лани со львом. Можно было с уверенностью сказать, что ему нисколько не поможет его правота, раз его противник пользуется влиянием и богатством и, следовательно, может успешно снять с себя вину в любом сумасбродстве, которое пожелает совершить. Это житейское правило в дальнейшем вполне подтвердилось. Богатство и тирания отлично умеют пользоваться в качестве пособников для своих притеснений теми законами, которые, быть может, сперва предназначались (глупая и жалкая предосторожность) для защиты бедняков.
С этого мгновения мистер Тиррел задался целью погубить Хоукинса и не оставлял неиспользованным ни одного средства, чтобы причинить страдание предмету своих преследований или повредить ему. Он лишил его должности помощника управляющего и приказал Барнсу и другим подчиненным, чтобы они при всяком удобном случае чинили ему неприятности. Мистер Тиррел как владелец поместья имел право на десятую долю дохода, и это обстоятельство давало ему частые поводы к мелочным спорам. Часть полей, принадлежавших к ферме Хоукинса, хотя и засеянная хлебами, была расположена ниже остальной земли, вследствие чего могла подвергнуться наводнению, случавшемуся время от времени благодаря находившейся здесь реки. Тиррел недели за две до уборки урожая собственноручно тайком прорвал плотину на этой реке, и весь хлеб был залит водой. Потом он приказал своим слугам в одну ночь убрать изгороди, защищавшие более высокие участки, и пустить туда скот, чтобы полностью уничтожить урожай. Однако эти меры коснулись только части имущества несчастного. Тиррел на этом не остановился. У Хоукинса при очень подозрительных обстоятельствах начался внезапный падеж скота. Это событие усилило бдительность Хоукинса, и в конце концов ему удалось выяснить это дело с такой точностью, что уже нельзя было сомневаться в том, что и здесь действует мистер Тиррел.