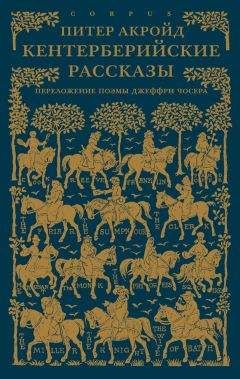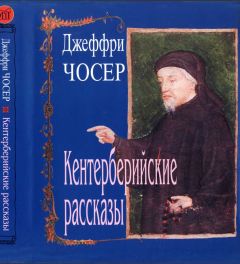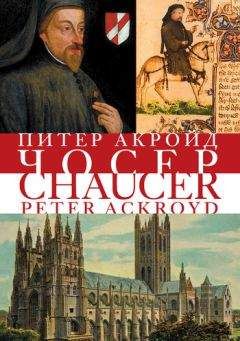Он пьян был вдрызг; как он в седле держался,
В толк не возьму. Да и вообще нахал Он был, буян и шапки не ломал
Ни перед кем, а тут как разорался —
Без удержу клялся он и ругался.
«Мне слово дай, и слов я наскребу
И рыцарев рассказ перешибу.
Ты не гляди, что я мужлан негодный,—
Я вам припас рассказец благородный».
Трактирщик молвил, видя, что он пьян:
«Послушай, Робин, ты хоть и буян,
А все держись-ка, знаешь, поскромнее,
Не то получишь тумака по шее».
«А! В крест и в душу! — мельник завопил.—
Ты хочешь, чтоб тебя я проучил?»
«Идет, рассказывай, будь ты неладен.
Ты думаешь, что мы с тобой не сладим?»
«Так слушайте же, — мельник заорал,—
Готов брехать, лишь бы монах не врал.
Не дуйтесь так. Хоть я, конечно, пьян,
Но пьяница все лучше, чем болван.
Коль ляпну что, — виной тому не хмель,
А твой, хозяин, препаршивый эль,
И если слов я всех не позабуду,
Про плотника и про жену здесь буду
Рассказывать и как ее студент
Увел и обольстил в один момент».
«Ну, ну, не очень-то ты чертыхайся
И сквернословием не увлекайся,—
Его одернул желчный мажордом.—
Ведь этот пьяница, когда захочет,
Он каждого ругнет иль опорочит.
Ну, что тебе марать всех женщин честь?
Ведь, право ж, и другие темы есть».
На это мельник возопил в ответ:
«Дражайший брат мой Освальд, нет и нет.
Ты прав лишь в том, что тот, кто не женат,
Тот, следственно, не может быть рогат.
Но ведь женат ты, — значит, кто же прав?
А я уж знаю женский слабый нрав.
Из жен верна на тысячу одна.
Но на кой бес такая мне жена?
Ты знаешь сам, на что уж ты святоша,
Как тяжела такого брака ноша.
Чего ты взъелся так на мой рассказ?
Я сам женат и был женат не раз.
Да ведь как будто бы и ты женат?
Так вот. Быть может, трижды я рогат
И ты рогат не раз. Беда какая!
В таких делах — покуда мы не знаем
Всего наверно — нечего спешить:
Рога всегда успеешь нацепить.
Попы твердят, что велика, мол, тайна,—
Так без нужды не испытуй без крайней
Господню тайну и тайник жены,
Беды в том нет, что утечет избыток
Воды из пруда, — это не корыто,
И он опять с краями натечет.
А как? Уж это как господь пошлет».
И тут плотину мельника размыло,
И нас потоком буйным захватило,
И удержать его никто не мог.
Едва ли мне удастся сей поток
В русло ввести пристойными словами,—
Я в том винюсь смиренно перед вами.
Но что мне делать: правду передать
Иль все с начала лживо сочинять?
Поэтому кого из вас коробит
Скоромное, пусть важной той особе
Не кажется, что озорству я рад.
Переверни страницу, — дивный сад
Откроется, и в нем, как будто в вазах,
Старинных былей, благородных сказок,
Святых преданий драгоценный клад.
Сам выбирай, а я не виноват,
Что мельник мелет вздор, что мажордом,
Ему назло, не уступает в том.
Не ступит шагу без божбы и брани.
Я вас хочу предупредить заране:
Добра скоромного здесь целый воз;
Но шуток тех не принимай всерьез.
РАССКАЗ МЕЛЬНИКА[101]
(пер. И. Кашкина)
Однажды жил в Оксфорде некий плотник,
По дереву он знатный был работник,
Но, хоть достаток был его не мал,
Он в дом к себе нахлебников пускал.
Жил у него один школяр смышленый,
Ученьем неустанным изможденный.
Бывало, сутки он не пьет, не ест,
До дыр читает ветхий Альмагест.[102]
Он всем семи искусствам обучился[103]
И в астрономию весь погрузился.
Посредством уравнений, теорем
Он уйму всяких разрешал проблем:
И засуху предсказывал, и ливни.
Поистине, его познанья дивны
Казалися в ту пору для всех нас.
А звали клерка — Душка Николас.
Он знал ловушки всякие, секреты
Любви сокрытой, знал ее приметы,
Но, все ее уловки изучив,
Как девушка, был скромен и стыдлив.
Он поселился в горнице особой.
Следил прилежно за своей особой.
Душился крепко и благоухал,
Как с корнем валерьяновым фиал.
И горница, сияя чистотою,
Пропахла вся душистою травою.
Он полки примостил у изголовья,
И там, расставленные им с любовью,
В ряду с деяньями святых отцов
Стояли книги древних мудрецов.
Необходимы для его работы,
Там были астролябия и счеты.
Комод был красным полотном покрыт,
И лютня — друг, что сердце веселит,—
Над ним в чехле на гвоздике висела.
И «Angelus ad virginem»[104] с ней пел он,
И песни светские. Так проводил
Школяр тот время и беспечно жил.
Когда же денег из дому не слали,
Провизией друзья его снабжали.
А вдовый плотник сызнова женился.
Как никогда в жену свою влюбился,
Когда ей восемнадцать лет минуло.
При сватовстве он щедр был на посулы,
Теперь ее он страстно ревновал
И в комнатах безвыходно держал.
Она была юна и своенравна,
А он старик, и этот брак неравный
Ему сулил, он знал и сам, рога.
Не допустить старался он врага
К жене своей. Простак не знал Катона,
Который написал во время оно:
«Жениться следует ровне с ровней,
И однолеткам в паре быть одной».
Попав, однако, в старую ловушку,
Он не пролить старался счастья кружку.
Она была стройна, гибка, красива,
Бойка, что белка, и, что вьюн, игрива.
На ней был пояс, вышитый шелками,
И фартук стан ей облегал волнами
Как кипень белыми. А безрукавка
В узорах пестрых. На сорочке вставки
Нарядные и спереди и сзади.
Коса черна, что ворон на ограде.
Завязки чепчика того же цвета;
И лента шелковая, в нем продета,
На лбу придерживала волоса;
Волной кудрявою вилась коса.
Глаза ее живым огнем сияли;
Чтоб брови глаз дугою огибали,
Она выщипывала волоски,
И вот, как ниточки, они узки
И круты стали. Так была нарядна,
Что было на нее смотреть отрадно.
Нежна, что пух, прозрачна на свету,
Что яблоня весенняя в цвету.
У пояса, украшена кругом
Шелками и точеным янтарем,
Висела сумка. Не было другой
Во всем Оксфорде девушки такой.
Монетой новой чистого металла
Она, смеясь, искрилась и блистала.
Был голосок ее так свеж и звонок,
Что ей из клетки отвечал щегленок.
Дыханье сладко было, словно мед
Иль запах яблок редкостных пород.
Как необъезженная кобылица,
Шалить она любила и резвиться.
Пряма, что мачта, и гибка, что трость,
Была она. Не щит — резная кость
Огромной брошки ей была защита.
Была высоко, туго перевита
Завязками нарядных башмачков
Лодыжка тонкая. Для знатоков
Она прелакомый была кусочек,
Могла б затмить легко баронских дочек,
Позора ложе с лордом разделить,
Могла б она женой примерной быть
Какого-нибудь йомена, который
По возрасту пришелся бы ей впору.
И вот, друзья, случилось как-то раз,
Завел возню с ней Душка Николас
(Весь день тот был супруг ее в отлучке).
Сначала приложился Душка к ручке,
Но дальше — больше, волю дал рукам
(Умел он ублажать девиц и дам):;
«О, утоли любви моей томленье,
Непереносны от тебя мученья!»
Вздохнул и обнял клерк ее за талью;
«О милая, я изойду печалью!»
Но, как кобыла, что, ярмо ночуя,
Брыкнет, взовьется разом, негодуя,
И, отбежав, оцепенеет вдруг,
Она рванулась у него из рук.
«Нет, нет, тебе не дам я поцелуя.
Пусти меня сейчас же! Закричу я!
Прочь руки, говорю тебе, и встань!»
Тут Николас свою отдернул длань,
Но так умильно начал он ласкаться
И убеждать, просить и извиняться,
Что под конец, склонясь к его мольбам,
Стенаниям, и смеху, и слезам,
Она любую милость обещала,
Но не сейчас. «Супруг мой, — объясняла
Она при этом, — бешено ревнив,
И надо, нетерпенье победив,
Ждать случая, не то меня убьет,
Коль ненароком вместе нас найдет!»
А он в ответ: «На что школяр годится,
Коль плотника надуть не изловчится?»
Но все-таки на том и порешили,
Что надо ждать, немного поостыли,
И на прощанье снова Николас,
Обняв ее за талью, много раз
В уста поцеловал, потом, взяв лютню,
Стал воспевать вино, любовь и плутни.
Вот снова наступило воскресенье,
И, получив от мужа позволенье,