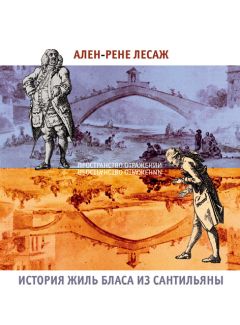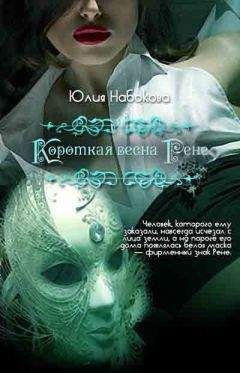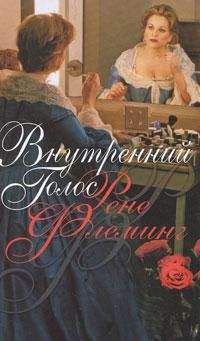Вскоре он вернулся с названным человеком, которого и представил мне, рассыпаясь в похвалах его честности. Мы втроем пошли на двор, куда вывели и моего лошака. Его несколько раз поводили взад и вперед перед барышником, который принялся рассматривать животное с ног до головы. При этом он не преминул сказать о нем много дурного. Признаюсь, что много хорошего и нельзя было сказать, но, будь это даже лошак самого папы, барышник все равно бы его охаял. Так, он уверял, что лошак наделен всеми существующими пороками, и, чтоб вернее меня убедить, ссылался на хозяина, у которого, вероятно, были свои причины с ним соглашаться.
— За сколько же вы рассчитываете продать эту негодную скотину? — равнодушно спросил меня барышник.
После похвал, которыми он его осыпал, а также аттестации сеньора Коркуэло, которого я считал искренним человеком и хорошим знатоком, я был готов отдать лошака хоть даром; поэтому я сказал торговцу, что полагаюсь на его честность: пусть оценит животное по совести, а я удовлетворюсь его оценкой. Тогда, строя из себя честного человека, он возразил мне, что, упомянув о совести, я затронул его слабое место. Действительно, оно было у него не из сильных, так как вместо того, чтоб определить стоимость лошака в десять или двадцать пистолей, как сделал дядя, он не постыдился предложить мне три дуката, которые я принял с не меньшей радостью, чем если б нажил на этой сделке.
После того как я столь выгодно отделался от лошака, хозяин повел меня к погонщику, который на следующий день намеревался ехать в Асторгу. Этот погонщик сказал мне, что тронется в путь до рассвета и что сам придет меня разбудить. Мы договорились о цене как за наем лошака, так и за харчи. Когда все было обусловлено, я вернулся на постоялый двор вместе с Коркуэло, который по дороге принялся рассказывать мне историю погонщика и сообщил все, что об этом говорили в городе. Он собирался оглушать меня и дальше своей невыносимой болтовней, но тут, к счастью, его прервал человек, обратившийся к нему с большой учтивостью.
Я покинул их и продолжал путь, не подозревая, что этот разговор может иметь ко мне какое-нибудь отношение.
Придя на постоялый двор, я потребовал ужин. День был постный, и мне стали готовить яичницу. Пока ее стряпали, я разговорился с хозяйкой, которую до того не видал. Она показалась мне довольно приглядной; в обхождении же она была столь бойка, что, не предупреди меня о том муж, я б и сам понял, почему эта харчевня привлекала так много посетителей. Когда подали заказанную мною яичницу, я уселся один за стол. Не успел я проглотить и первого куска, как вошел хозяин в сопровождении того человека, который остановил его на улице. Кавалер этот носил длинную рапиру, и на глаз ему можно было дать лет тридцать. Он подошел ко мне с восторженным видом.9
— Сеньор студент, — сказал он, — я сейчас только узнал, что вы не кто иной, как сеньор Жиль Блас из Сантильяны, украшение Овьедо и светоч философии. Возможно ли, что вы — тот наиученейший человек, тот светлый ум, слава коего столь велика в здешних краях? Вы даже не ведаете, — продолжал он, обращаясь к хозяину и к хозяйке, — вы даже не ведаете того, кого у себя принимаете. В вашем доме — сокровище: вы зрите в сем благородном сеньоре восьмое чудо света.
Затем повернувшись ко мне, он обнял меня за шею и продолжал:
— Простите мою восторженность, я не в силах совладеть с радостью, которую вызывает во мне ваше присутствие.
Я не смог ответить ему тотчас же, ибо он так сжал меня, что мне невозможно было дышать; но, высвободив, наконец, голову из его объятий, я сказал ему:
— Сеньор кавальеро, я не подозревал, что имя мое столь известно в Пеньяфлоре.
— Как? Известно? — продолжал он в том же тоне. — Мы отмечаем всех великих людей на двадцать миль в окружности. Вас почитают здесь за чудо, и, безусловно, настанет день, когда Испания будет так же гордиться тем, что произвела вас на свет, как Греция — рождением своих семи мудрецов.
За этой тирадой последовали новые объятия, которые мне пришлось выдержать, рискуя подвергнуться участи Антея.10 Обладай я хоть малейшим жизненным опытом, я не поверил бы его восторгам и гиперболам; я раскусил бы по его чрезмерной льстивости, что имею дело с одним из тех паразитов, встречающихся во всех городах, которые, увидев приезжего, заводят с ним знакомство, чтоб набить брюхо за его счет; но молодость моя и тщеславие побудили меня судить иначе. Мой поклонник показался мне чрезвычайно вежливым человеком, и я пригласил его отужинать со мной.
— О! С величайшим удовольствием! — воскликнул он. — Я слишком признателен судьбе за встречу с прославленным Жиль Бласом из Сантильяны, чтоб не использовать такую удачу возможно дольше. Хоть я и не чувствую особенного аппетита, — продолжал он, — все же сяду за стол компании ради и съем несколько кусочков из вежливости.
С этими словами мой панегирист уселся напротив меня. Ему подали прибор. Он набросился на яичницу с такой жадностью, точно не ел три дня. По усердию, с которым он за нее принялся, я увидел, что он справится с нею очень скоро. Поэтому я заказал вторую, которую приготовили так быстро, — что нам подали ее, когда мы (или, вернее сказать, он) кончали первую. Тем не менее он продолжал усердствовать с той же скоростью и, уплетая за обе щеки, успевал отсыпать мне одну похвалу за другой, что не мало льстило самодовольству моей скромной особы. При этом он часто прикладывался к стакану то за мое здоровье, то за здоровье моих родителей, счастье коих обладать таким сыном, как я, он не уставал превозносить. В то же время он подливал вина и в мой стакан и уговаривал не отставать. Я недурно отвечал на все здравицы, которые он провозглашал в мою честь; это, а также его льстивые речи привели меня незаметно в столь хорошее настроение, что, видя вторую яичницу наполовину съеденной, я спросил хозяина, не найдется ли у него рыбы. Сеньор Коркуэло, который, по-видимому, был заодно с паразитом, ответил мне на это:
— У меня есть отменная форель, но она обойдется дорого тому, кто вздумает ею полакомиться. Жирен для вас этот кусочек.
— Жирен? — воскликнул мой прихвостень, повышая голос. — Да вы не в своем уме, любезный; знайте, что нет у вас ничего такого, что было бы слишком хорошо для сеньора Жиль Бласа из Сантильяны, который заслуживает, чтоб с ним обращались, как с царственной особой.
Я остался весьма доволен его отповедью трактирщику, ибо он этим только опередил мое намерение. Чувствуя себя оскорбленным, я немедленно сказал Коркуэло:
— Тащите сюда вашу форель и не беспокойтесь об остальном.
Хозяин, который только того и ждал, принялся приправлять рыбу и вскоре поставил ее перед нами. При виде этого нового блюда глаза моего прихлебателя так и заискрились радостью, и он снова выполнил акт вежливости, то есть налег на рыбу так же, как перед тем на яичницу. Однако же и ему пришлось сдаться из опасения последствий, так как он наелся до отвала. Наконец, напившись и насытившись всласть, он решил прикончить эту комедию.
— Сеньор Жиль Блас, — сказал он, вставая из-за стола, — я слишком доволен вашим превосходным угощением, чтоб покинуть вас, не давши полезного совета, в котором вы, по-видимому, нуждаетесь. Итак, впредь остерегайтесь похвал. Не доверяйте незнакомцам. Вам могут встретиться такие, которые, как я, захотят позабавиться над вашим легковерием, а может быть, зайдут и еще дальше; не будьте у них в дураках и не верьте всякому на слово, что вы восьмое чудо света.
Сказав это, он расхохотался мне в лицо и удалился.
Эта насмешка была для меня не менее чувствительна, чем величайшие несчастья, приключавшиеся со мной впоследствии. Я не мог утешиться, что дал так грубо себя провести, или, вернее, не мог примириться с чувством уязвленной гордости.
«Как? — воскликнул я, — этот негодяй просто насмехался надо мной? Он остановил моего хозяина лишь для того, чтоб выпытать про меня всю подноготную, а скорее всего, оба они были заодно. Ах, бедный Жиль Блас! Умри со стыда: ведь ты дал им отличный повод тебя одурачить. Они состряпают из этого презабавную историю, которая, быть может, дойдет до Овьедо и доставит тебе там великую честь. Родители твои раскаются, что так усердно напутствовали болвана: зачем было предостерегать меня, чтоб я никого не обманывал, они лучше посоветовали бы мне самому не попадаться впросак».
Терзаемый досадой и волнуемый этими обидными мыслями, я заперся у себя в горнице и лег на постель, но заснуть мне не удалось, и не успел я еще сомкнуть глаз, как явился погонщик, который только меня и дожидался, чтоб отправиться в путь. Я тотчас же встал, и, пока я одевался, пришел Коркуэло со счетом, в котором форель, разумеется, не была забыта; мне не только пришлось заплатить все, что он за нее запросил, но, отдавая ему деньги, еще выслушать, к своему огорчению, как этот живодер вспоминал про вчерашнюю историю. Заплатив втридорога за ужин, оказавшийся для меня столь неудобоваримым, я захватил чемодан и отправился к погонщику, посылая ко всем чертям объедалу, хозяина и его постоялый двор.