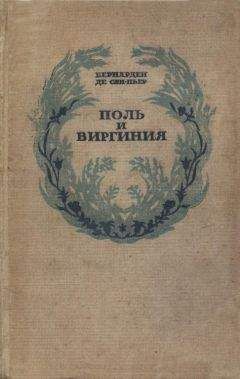67. Однако, Гай, скажи, пожалуйста, почему Фортунаты нет за столом?
– Почему? – ответил Трималхион. – Разве ты ее но знаешь? Пока всего серебра не пересчитает, пока не раздаст объедков рабам, воды в рот не во ъмет.
– Ну-с, – сказал Габинна, – если она не возляжет, я исчезаю! – И он попробовал подняться с ложа; но, по знаку Трималхиона, вся челядь четырежды кликнула Фортунату.
Она явилась в платье, подпоясанном желтым кушаком так, что снизу была видна туника вишневого цвета, витые браслеты и золоченые туфли. Вытерев руки висевшим на шее платком, она устроилась на том же ложе, где возлежала жена Габинны, Сцинтилла, захлопавшая в ладоши, и, поцеловав ее, воскликнула:
– Тебя ли я вижу?
Дело скоро дошло до того, что Фортуната сняла со своих жирных рук запястья и принялась хвастаться ими перед восхищенной Сцинтиллой. Наконец она и ножные браслеты сняла. и головную сетку тоже, про которую уверяла, будто она из червонного золота. Тут Трималхион это заметил и приказал принести все ее драгоценности.
– Посмотрите, – сказал он, – на эти женские цепи! Вот как нас, дураков, разоряют! Ведь этакая штука фунтов шесть с половиной весит; положим, у меня у самого есть запястье, весом в десять фунтов. Под конец, чтобы не думали, что он врет, Триматхион приказал подать весы и обнести их кругом стола для проверки веса. Сцинтилла оказалась не лучше: она сняла с шеи золотую ладанку, которую она называла Счастливицей, потом вытащила из ушей серьги и, в свою очередь, показала Фортунате.
– Благодаря доброте моего господина, – говорила она, – ни у кого лучше нет.
– Э! Что там? – сказал Габинна. – Ты же из меня всю душу вытянула, чтобы я купил тебе эти стеклянные балаболки! Будь у меня дочка, я бы ей уши отрезал. Если бы не женщины, все было бы дешевле грязи; а теперь – "мочись теплым, а пей холодное".
Между тем уязвленные женщины над чем-то тихонько хихикали, обмениваясь пьяными поцелуями: одна хвасталась хозяйственностью и домовитостью, а другая жаловалась на проказы и беспечность мужа. Но пока они обнимались, Габинна, незаметно приподнявшись, вдруг обхватил ноги Фортунаты и поднял их на ложе.
– Аи, аи! – завизжала она, видя, что туника се задралась выше колен.
И, бросившись в объятия Сцинтиллы, она закрыла платочком лицо, раскрасневшееся и оттого еще более уродливое.
68. Когда после небольшого перерыва Трималхион приказал вторично накрыть на стол, рабы убрали все столы и принесли новые, а пол посыпали опилками, окрашенными шафраном и киноварью, и – чего я раньше никогда не видывал – толченой слюдой.
– Ну, – сказал Трималхион, – мне-то самому и одной перемены хватило бы, а вторую трапезу только ради вас подают. Да уж ладно, если есть там что хорошенькое, тащи сюда.
Между тем александрийский мальчик, подававший горячую воду, защелкал, подражая соловью.
– Переменить! – вскоре закричал Трималхион, и вмиг появилась другая забава. Раб, сидевший в ногах Габинны, думаю, по приказанию своего хозяина, вдруг заголосил нараспев:
Флот Энея меж тем уж вышел в открытое море…
Никогда еще более режущий звук не раздирал моих ушей, к тому же он не только делал варварские ошибки и то громко, то придушенно орал, но еще и вставлял в поэму стихи из ател-лан; тут впервые сам Вергилий мне показался противным…
Тем не менее, когда он наконец замолчал, Габинна захлопал и сказал:
– А ведь нигде не учился! Я его посылал на выучку к базарным разносчикам; как примется представлять погонщиков мулов или разносчиков, – нет ему равного. И вообще отчаянно способный малый: он и пекарь, он и сапожник, он и повар – всем Музам слуга. Он бы по всем статьям вышел, но будь у него двух изъянов: он обрезан и во сне храпит. Что косой – наплевать: глядит, как Венера. Поэтому он ни о чем не может умолчать. Редко когда глаза смыкает. Я заплатил за него триста денариев.
69.- Нет, – вмешалась в разговор Сцннтилла, – ты еще не все художества негодного раба пересчитал. Это он тебе живой товар доставляет; я не я буду, если его не заклеймят.
– Узнаю каппадокийца,- со смехом сказал Трималхион,- никогда ни в чем себе не откажет, и, клянусь богами, я его за это хвалю, этого тебе никто в могилу не положит. Ты же, Сцинтилла, брось ревновать. Уж поверь мне, мы вашу сестру тоже знаем. Помереть мне на этом месте, если я в свое время не игрывал с хозяйкой, да так, что «сам» заподозрил и отправил меня в деревню. Но… «Молчи, язык! Хлеба дам».
Приняв эти слова за поощрение, негодный раб вытащил из-за пазухи глиняный светильник и с полчаса дудел, изображая флейтиста; Габинна вторил ему, играя на губах. В конце концов раб вылез на середину и принялся кривляться еще пуще: то, вооружившись выдолбленными тростниками, передразнивал музыкантов, то, завернувшись в плащ с капюшоном, изображал с бичом в руке погонщиков мулов. Наконец Габинна подозвал его к себе, поцеловал и, протянув ему кубок, присовокупил:
– Молодец, Масса! Я тебе башмаки подарю.
Никогда бы, кажется, не кончилось это мучение, если бы не подали десерта – дроздов-пшеничников, начиненных орехами и изюмом. За ними последовали кидонские яблоки, утыканные иглами, наподобие ежей. Все это было еще переносимо, пока не притащили блюда, столь чудовищного, что, казалось, лучше с голоду помереть. По виду – это был жирный гусь, окруженный всевозможной рыбой и птицей.
– Все, что вы здесь видите, – сказал Трималхион, – из одного вещества сделано.
Я, догадливейший из людей, сразу сообразил, в чем дело:
– Буду очень удивлен, – сказал я, наклонившись к Агамемнону, – если все это не сработано из навоза или, по меньшей мере, из глины. В Риме, на Сатурналиях, мне случалось видеть такие подобия кушаний.
70. Не успел я вымолвить этих слов, как Трималхион сказал:
– Пусть я разбухну, а не разбогатею, если мой повар не сделал всего этого из свинины. Дорогого стоит этот человек. Захоти только, и он тебе из свиной матки смастерит рыбу, из сала – голубя, из окорока – горлинку, из бедер – курицу; и к тому же, по моему измышлению, имя ему наречено превосходное: он зовется Дедалом. Чтобы вознаградить его за хорошее поведение, я ему выписал из Рима подарок – ножи из норийского железа.
Сейчас же он велел принести эти ножи и долго ими любовался; потом и нам позволили испробовать их остроту, прикладывая лезвие к щекам.
Вдруг вбежали два раба с таким видом, точно они поссорились у водоема; по крайней мере, оба несли па плечах амфоры. Тщетно пытался Трималхион рассудить их: они продолжали ссориться и совсем не желали подчиниться его решению; наконец один другому одновременно разбили палкой амфору.
Пораженные наглостью этих пьяниц, мы уставились на драчунов и увидали, что из чрева амфор вывалились устрицы и ракушки, Которые раб подобрал, разложил на блюде и стал обносить кругом. Искусный повар еще увеличил это великолепие: он принос на серебряной сковородке жареных улиток, напевая при этом дребезжащим и весьма отвратительным голосом.
Затем началось такое, что просто стыдно рассказывать: по какому-то неслыханному обычаю кудрявые мальчики принесли духи в серебряном тазу и натерли ими ноги возлежащим, предварительно опутав голени от колена до самой пятки цветочными гирляндами. Остатки этих же духов были вылиты в сосуды с вином и светильники. Уже Фортуната стала приплясывагь, уже Сцинтилла чаще хлопала в ладоши, чем говорила, тогда Трималхион закричал:
– Филаргир и Карион, хоть ты и завзятый «зеленый», позволяю вам возлечь; и сожительнице твоей Менофиле скажи, чтобы она тоже возлегла.
Чего еще больше? Челядь переполнила триклиний, так что нас едва не сбросили с ложа. Я узнал повара, который из свинья гуся делал: он возлег выше меня, и от него разило подливкой и приправами. Не довольствуясь тем, что его за стол посадили, он принялся передразнивать трагика Эфеса и все время подзадоривал своего господина биться об заклад, утверждая, что зеленые на ближайших играх удержат за собой пальму первенства.
71.- Друзья,- сказал восхищенный этим пререканием Трималхион, – рабы – тоже люди; одним с нами молоком вскормлены, и не виноваты они, что Рок их обездолил. Однако, по моей милости, скоро все напьются вольной воды. Я их всех в завещании своем отпускаю на свободу. Филаргиру, кроме того, отказываю его сожительницу и поместьице. Кариону – домик и двадесятину, и кровать с постелью. Фортунату же делаю наследницей и поручаю ее всем друзьям моим. Все это я сейчас объявляю затем, чтобы челядь меня уже теперь любила так же. как будет любить, когда я умру. Все принялись благодарить хозяина за его благодеяния; он же, оставив шутки, велел принести список завещания а под вопли домочадцев прочел его от начала до конца. Потом, переводя взгляд на Габинну, проговорил:
– Что скажешь, друг сердечный? Ведь ты воздвигнешь надо мной памятник, как я тебе заказал? Я очень прошу тебя, изобрази у ног статуи мою собачку, венки, сосуды с ароматами и все бои Петраита, чтобы я, по милости твоей, еще и нос не смерти пожил. Вообще же памятник будет по фасаду сто футов, а по бокам – двести. Я хочу, чтобы вокруг праха моего были всякого рода плодовые деревья, а также обширный виноградник. Ибо большая ошибка украшать дома при жизни, а о тех домах, где нам дольше жить, не заботиться. А поэтому я, прежде всего, желаю, чтобы в завещании было помечено: