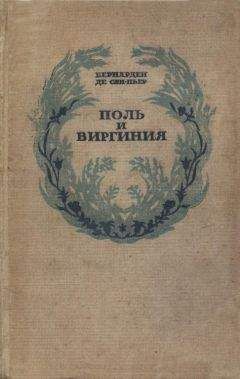76. Итак, с помощью богов я стал хозяином в доме, заполнив сердце господина. Чего больше? Хозяин сделал меня сонаследником Цезаря, я получил сенаторскую вотчину. Но человек никогда не бывает доволен: вздумалось мне торговать. Чтобы не затягивать рассказа, скажу коротко: снарядил я пять кораблей, нагрузил вином – оно тогда на вес золота было – и отправил в Рим. Но подумайте, какая неудача: все потонули.
Это вам но сказки, а чистая быль! В один день Нептун проглотил тридцать миллионов сестерциев. Вы думаете, я пал духом? Ей-ей, даже не поморщился от этого убытка. Как ни в чем не бывало снарядили другие корабли больше и крепче, и с большей удачей, так что никто меня за человека малодушного почесть не мог. Знаете, чем больше корабль, тем он крепче. Опять нагрузил я их вином, свининой, благовониями, рабами. Тут Фортуната доброе дело сделала: продала все свои драгоценности, все свои наряды и мне сто золотых в руку положила. Это были дрожжи моего богатства.
Чего боги хотят, то быстро делается. В первую же поездку округлил я десять миллионов. Тотчас же выкупил я все прежние земли моего патрона. Домик построил, рабов, скота накупил; к чему бы я ни прикасался, все вырастало, как медовый сот. А когда я стал богаче, чем все сограждане, вместе взятые, тогда – руки прочь: торговлю бросил и стал вести дела через вольноотпущенников. Я вообще от всяких дел хотел отстраниться, да отговорил меня подвернувшийся тут случайно звездочет-гречонок по имени Серапа, человек поистине достойный заседать в совете богов. Он мне все сказал, даже то, что я сам позабыл, все мне до нитки и игольного ушка выложил; насквозь меня видел, разве что не сказал мне, что я ел вчера. Можно подумать, что он всю жизнь со мной прожил.
77. Но помнишь, Габинна, – это, кажется, при тебе было – он сказал мне: «Ты таким-то образом добился своей госпожи. Ты несчастлив в друзьях. Никто тебе не воздает должной благодарности. Ты владелец огромных поместий. Ты отогреваешь на груди своей змею». Чего я вам еще не рассказал? Ах да, он предсказал, что мне осталось жить тридцать лет, четыре месяца и два дня. Кроме того, я скоро получу наследство. Вот какова моя судьба. И если удастся мне еще до самой Апулии имения расширить, тогда я могу сказать, что довольно пожил. Между тем пока Меркурий бдит надо мною, я этот дом перестроил: помните, хижина была, а теперь – храм. В нем четыре столовых, двадцать спален, два мраморных портика; во втором этаже еще помещение; затем моя собственная опочивальня, логово этой гадюки, прекраснейшая каморка для привратника; и сколько ни будь у меня гостей, для всех место найдется. Одним словом, когда Скавр приезжал, нигде, кроме как у меня, не пожелал остановиться, хоть еще у его отца были приятели, что живут у самого моря. Многое еще есть в этом доме, – я вам сейчас покажу. Верьте мне: асс у тебя есть, и цена тебе асс, Имеешь, еще иметь будешь. Так-то и ваш друг: был лягушкой, стал царем. Ну, а теперь, Стих, притащи сюда одежду, в которой меня погребать будут. И благовония из той амфоры, из которой я велел омыть мои кости.
78. Стих не замедлил принести в триклиний белое покрывало и тогу с пурпурной каймой.
Трималхион потребовал, чтобы мы на ощупь попробовали, добротна ли шерсть.
– Смотри, Стих, – прибавил он, улыбаясь, – чтобы ни моль, ни мыши не испортили моего погребального убора, не то заживо тебя сожгу. Желаю, чтобы с честью похоронили меня и все граждане чтоб добром меня поминали. Сейчас же он откупорил склянку с нардом и нас всех обрызгал.
– Надеюсь, – сказал он, – что и мертвому это мне такое же удовольствие доставит, как живому. Затем приказал налить вина в большой сосуд.
– Вообразите,- заявил он,- что вас на мою тризну позвали.
Но совсем тошно стало нам тогда, когда Трималхион, до омерзения пьяный, приказал ввести в триклиний трубачей, чтобы снова угостить нас музыкой. А потом, навалив на крайнее ложе целую груду подушек, он разлегся на них и заявил:
– Представьте себе, что я умер. Скажите по сему случаю что-нибудь хорошее.
Трубачи затрубили похоронную песню. Особенно старался раб того распорядителя похорон: он был там почтеннее всех и трубил так громко, что перебудил всех соседей. Стражники, сторожившие этот околодок, вообразив, что дом Трималхиона горит, внезапно разбили дверь и принялись лить воду и орудовать топорами, как полагается. Мы, воспользовавшись случаем, бросили Агамемнона и пустились со всех ног, словно от настоящего пожара.
79. У нас не было в запасе факела, чтобы освещать путь в наших блужданиях, и молчаливая полночь не посылала нам встречных со светильником. Прибавьте к этому наше опьянение и небезопасность мест, и днем достаточно глухих. По крайней мере, с час мы едва волочили окровавленные ноги по острым камням мостовой, пока догадливость Гитона не вызволила нас. Предусмотрительный мальчик, опасаясь и при свете заблудиться, еще накануне сделал мелом заметки на всех столбах и колоннах, – эти черточки видны были сквозь кромешную тьму и указали дорогу заблудившимся. Не меньше пришлось нам попотеть, когда мы пришли домой. Старуха хозяйка так нализалась с постояльцами, что хоть жги ее – не почувствовала бы; и пришлось бы нам ночевать на пороге, если бы не проводивший мимо курьер Трималхиона, владелец десяти повозок. Недолго раздумывая, он вышиб дверь и впустил нас в пролом…
Что за ночка, о боги и богини!
Что за мягкое ложе, где в объятиях
Жарких с уст на уста переливали
Наши души мы! Смертных треволненья.
Прочь ступайте! Мой бог! Сейчас умру я!
Но напрасно я радовался. Лишь только я ослабел от вина и мои руки бессильно повисли, Аскилт, тороватый на всяческие каверзы, среди ночи потихоньку выкрал у меня мальчика и перенес его на свое ложе. Без помехи натешившись чужим братцем, – а братец или не слышал, или делал вид, что не слышит, – он заснул в краденых объятиях, забыв все человеческие законы. Я же, проснувшись, напрасно шарил руками по своему безрадостно осиротевшему ложу. Верьте слову влюбленного! Я долго колебался, не пронзить ли мне их обоих мечом, чтобы они, не просыпаясь, уснули навеки. Но затем я принял решение менее опасное и, разбудив шлепками Гитона, зверски уставился на Аскилта и сказал:
– Своим поступком ты честность запятнал, ты дружбу нашу разрушил. Собирай поэтому скорее свои пожитки и ступай искать другое место для своих пакостей.
Аскилт не возражал, но когда мы добросовестно разделили имущество, он заявил:
– Теперь давай и мальчика подадим.
80. Я сперва вообразил, что он шутит на прощание; по он, сжимая братоубийственной рукою рукоять меча, произнес:
– Не попользуешься ты добычей, которую один ты хочешь лелеять. Я возьму свою долю, хотя бы вот этим мечом пришлось ее отрезать.
Я со своей стороны сделал то же и, обернув руку плащом, приготовился к бою. Несчастный мальчик, пока мы оба столь плачевно безумствовали, с громкими рыданиями обнимал наши колена, умоляя нас не уподоблять этого жалкого трактира Фивам, не обагрять братскою кровью святыню нежнейшей дружбы.
– Если, – восклицал он, – должно совершиться убийство, то вот мое горло! Сюда обратите руки! Сюда направьте мечи! Пусть умру я, разрушивший священные узы дружбы!
Тронутые этими молениями, мы вложили мечи в ножны.
– Я – затворил Аскилт,- положу конец раздору. Пусть мальчик идет за тем, за кем хочет. Пусть будет дана ему полная свобода в выборе братца. Я, полагая, что давнишняя привычка достигла прочности кровных уз, ничего не боялся п, с опрометчивой поспешностью ухватившись за предложение, передал свою судьбу в руки судьи; он же, ни мгновения не помедлив, не задумавшись, при последних словах моих поднялся… и избрал братом Аскилта. Как громом пораженный таким оборотом дела, я, точно не было у меня меча, рухнул на кровать и, наверное, наложил бы на себя преступные руки, если бы не боялся еще увеличить торжество врага. Исполненный гордости Аскилт удалился со своей добычей и бросил недавно дорогого ему товарища и собрата в счастье и в несчастье одинокого, на чужой стороне.
Дружба имя свое хранит, покуда полезна:
Камешек так по доске ходит туда и сюда.
Если Фортуна – за нас, мы видим, друзья, ваши лица,
Если изменит судьба, гнусно бежите вы прочь.
Труппа играет нам мим: вон тот называется сыном,
Этот отцом, а другой взял себе роль богача…
Но окончился текст, и окончитесь роли смешные,
Лик настоящий воскрес, лик балаганный пропал.
81. Однако не долго предавался я плачу, опасаясь, как бы в довершение всех бед не застал меня, одинокого, на этом постоялом дворе младший учитель Менелай; я собрал свои пожитки и, печальный, перебрался в укромный уголок неподалеку от морского берега. Три дня провел я там безвыходно, терзаясь мыслям» о своем одиночестве. Я бил кулаками мою наболевшую грудь, испуская глубокие стоны и непрерывно восклицая:
– Ужели не поглотит меня, расступившись, земля или море, жестокое даже к невинным? Затем разве я избег право судия, обманом спас жизнь на арене, убил приютившего меня хозяина, чтобы после стольких дерзновенных поступков жалким, одиноким изгнанником валяться в трактире греческого городка? И кто же, кто обрек меня этому одиночеству? Юнец, погрязший во всяческом сладострастии, по собственному признанию достойный ссылки! Разврат освободил его. разврат дал ему права гражданства… А другой? О боги! Он и в день совершеннолетия вместо мужской тоги надел столу; мать убедила его не быть мужчиной; на рабской каторге служит он женщиной; и этот мальчишка, словно банкрот, все бросил и нашел новое поле для своей похоти, а нашу старую дружбу предал и – о, стыд! – словно блудница, все продал за единую ночь. И теперь влюбленные лежат, обнявшись, целыми ночами, и, верно, когда утомятся взаимными ласками, издеваются надо мной, одиноким; но даром им это не пройдет! Или не по праву зовусь я мужчиной и свободнорожденным, или смою обиду их зловредной кровью!