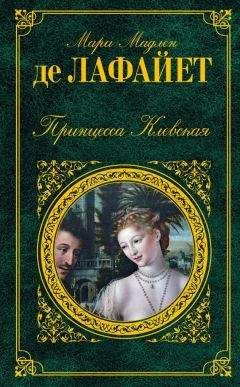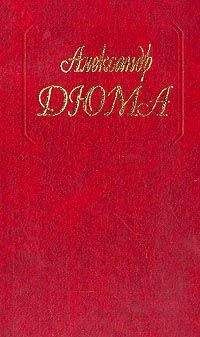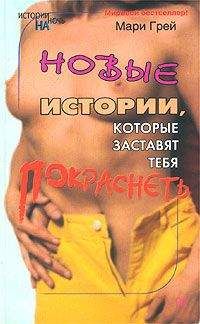Он молчал, думала она, пока считал себя несчастным; но надежда на блаженство, даже самая хрупкая, положила конец его скромности. Он не мог воображать себя любимым, не испытывая желания, чтобы об этом знали. Он сказал все, что мог сказать; я не говорила, что это его я люблю, он это предположил и разгласил свои предположения. Будь он в том несомненно уверен, он поступил бы так же. Я ошибалась, веря, что мужчина может быть способен скрывать то, что льстит его тщеславию. И вот из-за этого мужчины, которого я считала столь непохожим на всех остальных, я оказалась в том же положении, что и другие женщины, от которых столь сильно отличаюсь. Я утратила нежность и уважение мужа, который мог составить мое счастье. Скоро все будут смотреть на меня как на женщину, питающую безрассудную и пылкую страсть. Тому, кто ее внушил, она уже стала известна; а ведь для того, чтобы избежать этих несчастий, я рискнула своим покоем и самой своей жизнью.
Эти грустные размышления сменились потоком слез; но как ни тяжка была ее боль, она чувствовала, что имела бы силы ее снести, если бы ей не в чем было упрекнуть господина де Немура.
Герцог был в не меньшем волнении. Неосторожность, которую он совершил, проговорившись видаму де Шартру, и ужасные последствия этой неосторожности жестоко его терзали. Он не мог без отчаяния представлять себе смятение, тревогу и боль, которые прочел на лице принцессы Клевской. Он был безутешен, что сказал ей об этой истории слова, которые хотя и были сами по себе любезны, но, произнесенные в ту минуту, казались ему неучтивыми и грубыми, поскольку показывали принцессе Клевской его осведомленность в том, что она и есть та, кто питает пылкую страсть, а он – тот, кто ее внушил. Единственное, о чем он мечтал, была возможность поговорить с нею; но он полагал, что она должна скорее страшиться такой беседы, чем желать ее.
«Что мне ей сказать? – восклицал он. – По-прежнему изъясняться в том, что ей и так слишком хорошо известно? Показывать ей, что я знаю о ее любви ко мне, я, ни разу не осмелившийся даже сказать ей о своей любви? Начать говорить с ней открыто о моей страсти и показаться ей человеком, которому надежда придает дерзости? Могу ли я даже думать о том, чтобы подойти к ней, и смею ли я смущать ее своим видом? Чем я могу оправдаться? Мне нет извинения, я недостоин взгляда принцессы Клевской и не надеюсь, что она когда-нибудь на меня взглянет. Своей оплошностью я сам дал ей лучшее средство защиты от меня, чем все те, которых она искала, и, быть может, искала напрасно. Своей неосторожностью я утратил счастье и честь быть любимым самой прелестной и самой достойной женщиной на свете; но если бы я утратил такое счастье, не причинив страданий и мучительной боли ей, это было бы мне утешением; а теперь мне тяжелее думать о том зле, которое я сделал ей, чем о том, что уготовил себе самому».
Господин де Немур продолжал терзаться, возвращаясь мыслями к одним и тем же предметам. Желание поговорить с принцессой Клевской не покидало его. Он стал искать к тому способы, подумал, не написать ли ей, но затем счел, что после совершенного им поступка и при том состоянии, в каком она была, лучшее, что он может сделать, – это свидетельствовать ей глубочайшее уважение своей удрученностью и своим молчанием, показать ей, что он не смеет даже предстать перед ней, и ждать того, что время, случай и склонность, которую она питала к нему, могли для него совершить. Он решил также не делать никаких упреков за нескромность видаму де Шартру, опасаясь укрепить его подозрения.
Обручение Мадам, назначенное на завтра, и ее свадьба на следующий день так занимали весь двор, что принцессе Клевской и господину де Немуру нетрудно было скрывать на людях свою грусть и свое волнение. Даже дофина лишь мимоходом напомнила принцессе Клевской об их беседе с господином де Немуром, а принц Клевский старался вовсе не говорить с женой обо всем произошедшем, так что положение ее оказалось не столь затруднительно, как она воображала.
Обручение было отпраздновано в Лувре, и после пиршества и бала все королевское семейство отправилось ночевать в резиденцию епископа; таков был обычай. Наутро герцог Альба, который всегда одевался очень просто, облачился в наряд из золотой парчи с полосами огненного, желтого и черного цветов, весь покрытый драгоценными камнями; на голове у него была закрытая корона. Принц Оранский, также роскошно одетый, с людьми в его ливрее, и все испанцы со своими людьми явились за герцогом Альбой во дворец Вильруа, где помещался герцог, и процессией по четыре человека в ряд двинулись к резиденции епископа. Как только они прибыли туда, все отправились в церковь; впереди король вел Мадам, на которой также была закрытая корона, а шлейф ее несли мадемуазель де Монпансье и мадемуазель де Лонгвиль. Затем шла королева, но без короны. За нею – дофина, Мадам, сестра короля, герцогиня Лотарингская и королева Наваррская; их шлейфы несли принцессы. Все девицы из свит королев и принцесс были одеты в нарядные платья тех же цветов, что носили их повелительницы, так что по цвету одежды можно было распознать, кому они прислуживают. Все взошли на устроенный в церкви помост, и брачный обряд совершился. Затем все вернулись обедать в резиденцию епископа, а к пяти часам отправились во дворец, где давалось пиршество и куда были приглашены члены парламента, верховных судов и городской ратуши. Король, королевы, принцы и принцессы разместились за мраморным столом в большой зале дворца; герцог Альба сидел рядом с новой королевой Испании. Ниже возвышения, на котором стоял мраморный стол, и по правую руку от короля был стол для послов, архиепископов и рыцарей ордена, а по другую руку – стол для господ членов парламента.
Герцог де Гиз, в наряде из узорчатой золотой парчи, был у короля церемониймейстером, принц де Конде – кравчим, а герцог де Немур – виночерпием. Когда убрали столы, начался бал; его прервали балеты и представления с удивительными машинами. Затем бал продолжился, и наконец после полуночи король со всем двором вернулся в Лувр. Как ни печальна была принцесса Клевская, красота ее по-прежнему казалась несравненной всем, а в особенности господину де Немуру. Он не осмелился с нею заговорить, хотя суета во время церемонии не раз давала ему случай; но она увидела его исполненным такой грусти и такой почтительной робости к ней приближаться, что уже стала считать его не столь виновным, хотя он не сказал ей ни слова в свое оправдание. Так же он вел себя и в последующие дни, и это поведение таким же образом воздействовало на сердце принцессы Клевской.
Наконец настал день турнира[277]. Королевы поместились на галереях и помостах, возведенных для них. Четверо рыцарей, принимавших все вызовы, появились на краю ристалища со множеством лошадей и свитой в их ливреях; они представляли собою самое великолепное зрелище, какое только видела Франция.
Наряд короля состоял только из белого и черного; он всегда носил эти цвета ради герцогини де Валантинуа, которая была вдовой. Герцог Феррарский и все его люди были в желтом и красном; герцог де Гиз появился в алом и белом – поначалу никто не мог догадаться, почему он выбрал эти цвета, а потом вспомнили, что это были цвета одной красавицы, которую он любил, когда она была еще девицей, и продолжал любить, хотя и не осмеливался больше ей этого показывать. Господин де Немур был в желтом и черном, и напрасно все искали тому объяснения. Принцесса Клевская догадалась без труда: она вспомнила, как говорила при нем, что любит желтое и досадует, что белокура и не может поэтому такой цвет носить. Герцог счел, что не будет нескромностью появиться в наряде этого цвета, так как принцесса Клевская никогда его не носила и никто не заподозрит, что это ее цвет.
Четверо рыцарей, принимавших вызовы, выказали невиданную искусность. Хотя король был лучшим наездником в своем королевстве, зрители не знали, кому отдать предпочтение. У господина де Немура в каждом движении было столько изящества, что он мог склонить на свою сторону особ и менее им занятых, чем принцесса Клевская. Завидев его на краю ристалища, она почувствовала сильное волнение, и во время всех поединков герцога ей трудно было скрывать свою радость, когда он счастливо завершал состязание.
Вечером, когда все уже почти закончилось и зрители собирались расходиться, король, к несчастью для государства, пожелал еще раз сразиться на копьях. Он послал к графу Монтгомери[278], славившемуся своей ловкостью, чтобы тот вышел на ристалище. Граф упрашивал короля не заставлять его это делать и приводил все отговорки, какие только мог придумать, но король, почти разгневавшись, велел ему передать, что непременно этого желает. Королева послала к королю сказать, что умоляет его не состязаться больше, что он сражался блистательно и может быть доволен и что она заклинает его вернуться к ней. Король отвечал, что это ради любви к ней он желает сразиться вновь, и вошел внутрь ограды. Королева послала герцога Савойского, чтобы еще раз попросить его вернуться; все было тщетно. Они сразились; копья сломались, и кусочек от копья графа Монтгомери попал королю в глаз и там застрял. Он упал, оруженосцы его и графа Монтгомери, который был одним из распорядителей турнира, бросились к нему. Они были поражены, увидев, что он ранен, но король не потерял присутствия духа. Он сказал, что это пустяк и что он прощает графа Монтгомери. Нетрудно вообразить, какую тревогу и огорчение вызвал этот зловещий случай в день, отведенный для радости. Короля перенесли в постель, хирурги тотчас осмотрели рану и нашли ее весьма опасной. Господин коннетабль вспомнил тогда сделанное королю предсказание, что он будет убит на поединке; он не сомневался, что предсказание исполнится.