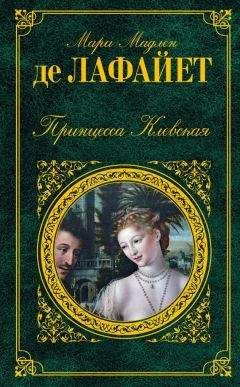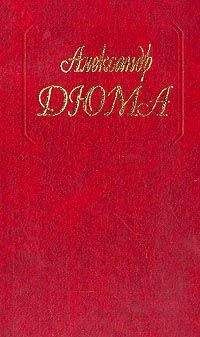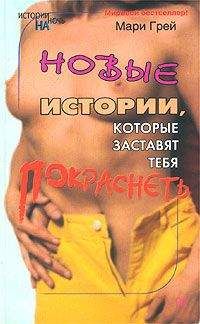Король Испании был тогда в Брюсселе; узнав о несчастье, он послал своего лекаря, прослывшего весьма сведущим во врачевании, но тот счел, что король безнадежен.
Двор, разделенный на партии и кипящий таким множеством противоречивых интересов, пришел в немалое волнение накануне столь важного события; тем не менее подобные заботы скрывались, и, казалось, все были поглощены единственно тревогой о здоровье короля. Королевы, принцы и принцессы почти не покидали его покоев.
Принцесса Клевская, понимая, что обязана там быть, что встретит там господина де Немура, что не сможет скрыть от мужа своего смятения при виде его, и зная также, что одно присутствие герцога уже оправдывает его в ее глазах и развеивает всю ее решимость, надумала сказаться больной. Двор был слишком занят, чтобы обращать внимание на ее поведение и гадать, была ли ее болезнь настоящей или притворной. Только муж ее мог распознать истину, но ее и не огорчило бы, если б он это сделал. Итак, она оставалась дома, не слишком заботясь о готовящихся великих переменах; погруженная в собственные размышления, она могла без помех им предаться. Все были при короле. Принц Клевский время от времени приходил к ней рассказать новости. Он вел себя с ней как обыкновенно, и только когда они оставались одни, он был чуть более холоден и чуть менее свободен. Он не заговаривал с ней больше о том, что произошло; и у нее не было сил возобновлять такие беседы, да она и не считала это уместным.
Господин де Немур, который надеялся улучить минуту и поговорить с принцессой Клевской, был весьма удивлен и раздосадован, что не имел даже удовольствия ее видеть. Рана короля оказалась столь опасной, что на седьмой день лекари объявили ему, что надежды нет. Он принял весть о своей неминуемой кончине с необычайной твердостью, тем более поразительной, что расставался с жизнью по столь злосчастной случайности, что умирал во цвете лет, счастливый, боготворимый своим народом и любимый женщиной, которую сам безумно любил. Накануне смерти он велел обвенчать Мадам, свою сестру, с герцогом Савойским, безо всяких пышных церемоний. Нетрудно вообразить, в каком состоянии была герцогиня де Валантинуа. Королева не позволила ей увидеться с королем и послала к ней потребовать королевские печати и драгоценности, которые у нее хранились. Герцогиня осведомилась, умер ли король; и когда ей сказали, что нет, ответила:
– Стало быть, у меня еще нет повелителя, и никто не может заставить меня отдать то, что он доверил мне хранить.
Как только он испустил дух в замке Турнель, герцог Феррарский, герцог де Гиз и герцог де Немур сопроводили в Лувр королеву-мать, короля и королеву, его супругу. Господин де Немур вел королеву-мать. Когда они двинулись с места, она отступила на несколько шагов и сказала королеве, своей невестке, что та должна пройти первой; но нетрудно было заметить, что в этой учтивости заключалось больше горечи, чем заботы о соблюдении приличий.
Кардинал Лотарингский получил безраздельную власть над помыслами королевы-матери; видам де Шартр вовсе лишился ее милости, а любовь к госпоже де Мартиг и к свободе мешала ему даже почувствовать эту потерю так живо, как она того заслуживала. Кардинал за десять дней болезни короля имел время определиться в своих замыслах и убедить королеву принять решения, которые с этими замыслами согласовались; так что сразу по смерти короля королева велела коннетаблю оставаться в Турнеле при теле покойного и заняться обыкновенными в таких случаях церемониями. Это поручение оторвало его от всего происходившего и лишило свободы действий. Он послал к королю Наваррскому с просьбой спешно приехать, чтобы они могли совместно противостоять небывалому возвышению Гизов, которое, как он видел, готовилось. Командование армией было отдано герцогу де Гизу, а распоряжение финансами – кардиналу Лотарингскому. Герцогиня де Валантинуа была отлучена от двора; вернули кардинала де Турнона, заклятого врага коннетабля, и канцлера Оливье, заклятого врага герцогини де Валантинуа. Одним словом, лицо двора совершенно переменилось. Герцог де Гиз наравне с принцами крови нес королевскую мантию во время погребальных церемоний; он и его братья стали полновластными хозяевами в королевстве не только благодаря влиянию кардинала на королеву, но и потому, что королева полагала, будто всегда сможет их удалить, если они вызовут ее неудовольствие, тогда как с коннетаблем она бы так поступить не могла, ибо он пользовался поддержкой принцев крови.
По завершении траурных церемоний коннетабль явился в Лувр; король принял его весьма холодно. Он хотел поговорить наедине, но король позвал господ де Гизов и при них сказал коннетаблю, что советует ему уйти на покой; что есть кому распоряжаться финансами и начальствовать над армией и что если ему понадобятся советы коннетабля, то он призовет его к себе. Затем коннетабль был принят королевой-матерью – еще более холодно, чем королем; она даже попрекнула его тем, что он говорил королю, будто его дети на него не похожи. Прибыл король Наваррский; его приняли не лучше. Принц де Конде, менее терпеливый, чем его брат, громко возмущался; возмущение его было напрасно, его удалили от двора, послав во Фландрию подписывать ратификацию мирного договора. Королю Наваррскому показали подложное письмо от короля Испании с обвинениями в том, что он нападает на испанские города; ему внушили опасения за его земли и наконец убедили в необходимости возвращаться в Беарн. Королева дала ему и предлог для этого, поручив сопровождать принцессу Елизавету и даже обязав его поехать вперед; так при дворе не осталось никого, кто мог бы уравновешивать могущество дома Гизов.
Хотя для принца Клевского было огорчительно, что не он повезет принцессу Елизавету, но сан того, кого ему предпочли, лишал его оснований для обиды; однако он жалел об этой поездке не столько из-за почестей, с ней сопряженных, сколько из-за того, что это была возможность удалить его жену от двора так, чтобы не было заметно желание ее удалить.
Вскоре после смерти короля было решено ехать в Реймс для коронации. Как только начались разговоры об этом путешествии, принцесса Клевская, которая оставалась дома, притворяясь больной, стала просить мужа позволить ей не следовать за двором и уехать в Куломье подышать воздухом и позаботиться о своем здоровье. Он отвечал, что не хочет вникать, действительно ли слабое здоровье мешает ей проделать путешествие в Реймс, но согласен, чтобы она его не совершала. Он охотно согласился с принятым ею решением: сколь бы высоко он ни ценил добродетель своей жены, он отлично видел, что благоразумие требует не подвергать ее более опасности встречаться с мужчиной, которого она любит. Господин де Немур вскоре узнал, что принцесса Клевская не будет следовать за двором; он не мог уехать, не повидав ее, и накануне отъезда отправился к ней так поздно, как только позволяли приличия, в надежде застать ее одну. Во дворе ее дома он встретил госпожу де Невер и госпожу де Мартиг, выходивших от нее; они сказали, что оставили ее в одиночестве. Он вошел в дом с таким волнением, какое могло сравниться только с волнением принцессы Клевской, когда ей сказали, что ее хочет видеть господин де Немур. Страх, что он заговорит с нею о своей страсти, опасение ответить ему слишком благосклонно, тревога, которую этот визит может внушить ее мужу, мысль о том, как трудно будет все ему рассказать или все от него скрыть, мгновенно промелькнули в ее уме и привели ее в такое смятение, что она решилась избежать того, чего, быть может, более всего желала. Она послала одну из своих прислужниц к господину де Немуру, ожидавшему в передней комнате, сказать, что внезапно почувствовала себя дурно и весьма огорчена, что не может принять чести, которую он пожелал ей оказать. Как горько было герцогу не увидеться с принцессой Клевской, и не увидеться потому, что она этого не хотела! Он уезжал на следующий день; никаких надежд на счастливый случай у него не оставалось. Он не говорил с нею после той беседы у дофины и имел основания полагать, что неосторожность проговориться видаму разрушила все его упования; итак, он уезжал, испытывая все, что только могло сделать его боль еще острее.
Как только принцесса Клевская немного оправилась от смятения, в которое поверг ее визит герцога, все доводы, заставившие ее отказать ему, исчезли; она даже сочла, что совершила ошибку, и если бы осмелилась или если бы на то было еще время, то велела бы его вернуть.
Госпожа де Невер и госпожа де Мартиг, выйдя от нее, отправились к дофине; там был и принц Клевский. Дофина спросила, откуда они сейчас; они отвечали, что были у принцессы Клевской, где провели часть вечера в многолюдном обществе и что остался там только господин де Немур. Эти слова, которые им казались ничего не значащими, не были таковы для принца Клевского. Хотя он отлично понимал, что господин де Немур мог иметь множество случаев поговорить с его женой, мысль о том, что он был у нее, что он был там один и мог говорить о своей любви, показалась ему в тот миг столь неожиданной и невыносимой, что ревность разгорелась в его сердце жарче, чем когда бы то ни было. Он не мог оставаться у королевы; он вернулся, не зная сам, зачем это делает и собирается ли прервать беседу господина де Немура с принцессой. Подъехав к дому, он стал высматривать, нет ли каких-либо признаков, позволяющих понять, там ли еще герцог; он почувствовал облегчение, увидев, что его уже нет; ему приятно было думать, что герцог не мог пробыть там долго. Он предположил, что, быть может, вовсе и не к господину де Немуру ему следует ревновать жену, и хотя он в том не сомневался, но искал повода усомниться; однако его убеждало в том такое множество доказательств, что он недолго пребывал в столь желанной неопределенности. Он сразу же прошел в спальню жены и, поговорив с ней какое-то время о вещах посторонних, не смог удержаться и спросил, что она делала и кого видела; она ему рассказала. Заметив, что она не упомянула господина де Немура, он спросил, трепеща, перечислила ли она всех, кого видела, чтобы дать ей возможность назвать герцога и не страдать от того, что она с ним хитрит. Но поскольку она не видела герцога, то и не назвала его, и принц Клевский продолжал, тоном голоса выдавая свое волнение: