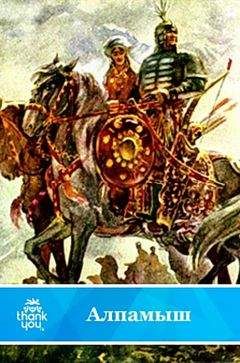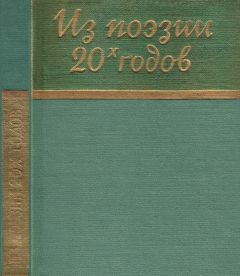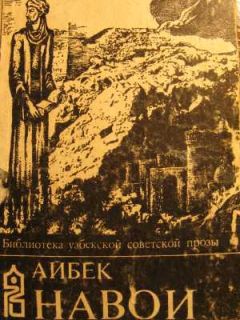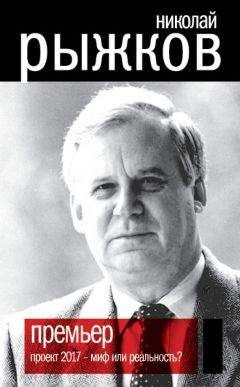Встали арбакеши — отвечают ей:
— Ячменем и сеном покормив коней,
В горы едем не по воле мы своей, —
Посылает нас отец твой, Тайча-хан.
Выпал снег — следы оставит караван.
Нас — пятьсот, и все мы вооружены.
Хоть и были б мы драконом сожжены,
Шахское веленье выполнить должны.
Не послушались арбакеши совета Ай-Тавки — отправились на ту гору-Зиль. Вернулась Тавка-аим к себе, прошла в зиндан — и говорит такое слово Алпамышу:
— Словно нитка бус жемчужных порвалась. —
Я роняю слезы целый день из глаз.
Светоч утешенья моего погас:
Нитка дней твоих, любимый, пресеклась,
Счастья твоего с тебя упал венец:
В этом бренном мире милый — не жилец, —
Схвачен он, как видно, смертью, наконец.
Слушай, Алпамыш, батыр мой, удалец:
Все-таки тебя погубит мой отец!
Стало ведомо одно мне дело здесь:
Ты умрешь, свое оставив тело здесь, —
Не в земле Конгратской, а в земле чужой!
Я тебе служить мечтала всей душой,
Быть твоей рабой, твоей сестрой меньшой.
Но не ехать мне с тобой в тот путь большой,
Не прибыть с тобою в твой Конграт родной.
Не зажить твоею преданной женой,
И тебе не ведать радостей со мной.
Ой, вот-вот порвется жизни твоей нить,
Суждено тебе в чужой земле изгнить:
Скоро, мой султан, тебя должны казнить!
Этой казни ведь не знает мой султан, —
Заживо хотят его похоронить!..
Лик девичий мой был, как тюльпан, румян, —
Станет он от скорби желтым, как шафран.
Алпамыш — глава Конграта — не в черед
На чужбине в одиночестве умрет,
И о том узнать не смогут никогда
Ни родня его, ни весь его народ!..
Алпамыш, желая утешить сердечно к нему привязавшуюся Ай-Тавку, говорит ей так:
— В мире бренном — жизни без кончины нет,
Не сужденной смерти ни единой нет
Ни людской душе, и ни мушиной. Нет,
Страхам за меня, мой друг, Тавка-аим,
Достоверной все-таки причины нет!
Знай, что Алпамыша нелегко убить,—
Поживу еще на свете, может быть.
Калмыки мечтают извести меня,
Ждет отец твой, шах, семь лет такого дня.
Хоть и не бывает дыма без огня,
Но всего дымней сырая головня;
Это все, быть может, только болтовня,
Вражеское лишь пустое хвастовство:
Непременно, мол, теперь казним его!
Не горюй же ты заране, Тавка-джан.
Хоть сижу семь лет в зиндане, Тавка-джан,
Хоть унижен я, но я — конгратский хан.
Может быть, покину вражеский зиндан…
Горько я тоскую по родной стране,
Думаю, все время о своем коне:
Жив ли он еще, мой Байчибар, мой конь?
Вспоминает ли меня тулпар мой, конь?
Узниками стать случилось нам двоим, —
Не остался ль я без крыл, Тавка-аим:
Не был ли убит мой конь отцом твоим?
Просьбу мою, вопль мой, Ай-Тавка, услышь:
О коне узнать так жаждет Алпамыш, —
Вестью о коне меня ты окрылишь!
Милая калмычка, столько слез не лей,
Дивные свои глаза ты пожалей,
Хоронить меня еще причины нет.
Узником в зиндане сидя столько лет,
Добротой твоей, как солнцем, я согрет,
Будь мне навсегда святынею твой след!
О моем коне правдивый дай ответ.
Дочь калмыцкого хана тоже такое слово сказала Алпамышу:
— Хоть не знаю я, какой твой конь на вид, —
На конюшне ханской конь один стоит.
Я скажу приметы: он или не он, —
Не клеймом калмыцким этот конь клеймен;
Слух слыхала я — он якобы пленен;
Выше бабок конь гвоздями прогвожден,
Он чугунною колодой пригнетен, —
Вес колоды — сто батман без десяти…
Если конь не твой, ошибку мне прости.
На ноги не может конь-бедняга встать,
Голову не в силах от земли поднять.
Так уже лет семь он вынужден страдать.
У калмыков страх большой перед конем:
Говорят, что разум у коня — людской,
Человеческой тоскует, мол, тоской,
Говорят калмыки: «Он — такой-сякой,
Нам иных людей опасней», — говорят.
Про коня такие басни говорят!
Родина коня — слыхала я — Конграт,
Ездил на коне — слыхала я — узбек.
Терпит конь мученья столько лет подряд,—
В муках и закончит он свой конский век:
Ни один за ним не ходит человек, —
Ни зерна ему, ни сена не дают,
Походя его чем ни попало — бьют,
Походя в глаза печальные плюют…
Выслушал Алпамыш слова Тавки-аим и так ей сказал:
— Знай: пришлось врагам, чтобы пленить меня,
Злым снотворным зельем опоить меня;
Чтобы в эту яму заточить меня,
Конской силою пришлось тащить меня.
Мой же верный конь меня и приволок:
Мучили его, — что он поделать мог!
Совесть Байчибара предо мной чиста,
Знает — я отрублен был с его хвоста.
Все же мой Чибар тоскует неспроста:
Думая, что был я на куски разбит,
Конь мой безутешно обо мне скорбит…
Ухо, Ай-Тавка, склони к моим словам:
Дорога мне участь верного слуги, —
Вызволить коня из плена помоги, —
Пусть не торжествуют надо мной враги!
Вот тебе пучок сухой травы-исрык;
К запаху ее мой верный конь привык, —
С этою травой пахучею — беги
К стойлу Байчибара, там ее зажги,
Чтобы не заметил ни один калмык.
Дым травы душистой до его ноздрей
Лишь дойдет — и сразу станет конь бодрей:
Он почует запах родины своей, —
Сразу же поймет: его хозяин жив!
Поспеши, беги, красавица, быстрей!..
Тот пучок травы Тавка-аим взяла,
С той исрык-травой поспешно в путь пошла,
До конюшен шахских травку донесла, —
От конюших прячась, травку подожгла.
Дым исрык-травы ноздрей коня достиг, —
Конская душа вся просветлела вмиг:
Вспомнилось лошадке, что сухой исрык
Алпамыш с собой в походы брать привык.
Словно возрожден душистою травой,
Понял Байчибар, что бек Хаким — живой:
Конь семь лет лежал с поникшей головой, —
Тут он сразу встал, свободно задышал,
Голову задрал — и весело заржал.
Тут в куски распалась и колода та,
Гвозди стали сами выпадать из ног…
Вольный из конюшни мчится скакунок,
Скачет через всю столицу скакунок.
То не гром в горах — то байчибаров скок!
Ждет коня в зиндане богатырь ездок, —
Держит путь Чибар туда, к Мурад-Тюбе.
Калмыки бранятся: «Сдохнуть бы тебе!»
«Этот конь узбека, — думают они, —
Был семь лет калека! — думают они: —
Может быть, семь лет притворствовал, хитрец,
Может быть, стервец, взбесился под конец?!»
Скачет Байчибар, — кто встречный — тот мертвец!
Калмыки совсем в смятение пришли, —
Лучше б, мол, они такую тварь сожгли!
А Чибар иное чудо сотворил:
Пару он раскрыл своих незримых крыл, —
Над землей теперь гагарою парил!
Полюбуйся-ка, что за чубарый конь:
Видано ль, чтоб мог летать гагарой конь?!
У зиндана конь приветственно заржал,
Он зиндан семижды рысью обежал,
Заглянувши вглубь, Хакима увидал —
И, каким бывал, таким же снова стал,
Словно никаких он мук не испытал…
Алпамыш, увидав коня своего, — обрадовался — и стал молитву шептать, прося святых чильтанов — помочь ему выкарабкаться из зиндана.
Вновь и вновь слова молитвы от твердит —
И с надеждой вверх из глубины глядит.
Над жерлом зиндана конь его стоит, —
Своего хвоста он ощущает рост:
Что ни миг, то все длиннее хвост, пышней, —
Вырастает ровне в сорок саженей!
Тут Чибар в зиндан свой погружает хвост.
Хвост Хаким увидел — и возликовал,—
Не напрасно он спасенья ожидал!
Сорокасаженным тем хвостом — свой стан
Алпамыш-батыр покрепче обмотал, —
Обвязавшись, крикнул он коню: «Тяни!
Ты моих надежд, мой конь, не обмани:
Вытянешь — заблещут снова счастья дни!..»
Байчибар надежд его не обманул:
Голову к земле, натужась, он пригнул,
На своем хвосте батыра потянул —
Вытянул! На вольный мир батыр взглянул.
Осмотрел он сбрую на коне, — вздохнул:
Видит, что порядка в конской сбруе нет, —
Истрепалась, ветхой стала за семь лет.
Алпамыш подпругу друга отвязал,
Очищать со сбруи пот и грязь он стал, —
Надо же коня в порядок привести.
Много всякой дряни завелось в шерсти, —
Стал ногтями шерсть усердно он скрести.
Нравится коню хозяина уход, —
Кротко он стоит и благодарно ржет…
А со стороны вершины Зиль сюда
Караван груженных камнем арб идет.
Много потрудясь и претерпев невзгод,
Арбакешей приближается народ.
Ехали-спешили, прибыли — глядят, —
Собственным глазам поверить не хотят, —
Думают: «Ужель мы все сошли с ума?»
Смотрят — на вершине лысого холма
Конь стоит, а рядом — человек один, —
Издали заметно — грозный исполин.
Кто же он, такой могучий великан,
Коль не Алпамыш, покинувший зиндан?
Чьими же руками он освобожден?
Для чего же этот камень привезен?
Каждый арбакеш смертельно устрашен:
«Этот Алпамыш — не он ли тот дракон,
С Зиль-горы пришедший на Мурад-Тюбе?
Пропадай в степи и кони и арбы!»
Покидая все на произвол судьбы,
Арбакеши эти, все пятьсот, как есть,
Пешие бегут — приносят в город весть…
Амальдары шаху весть передают:
«Алпамыш сбежал из ямы! — говорят, —
С ним и конь его, тот самый! — говорят:
Есть тому полтыщи очевидцев, шах!
Поскорей изволь распорядиться, шах!»
Окружить столицу! — шах дает приказ.
Запереть границу! — шах дает приказ;
Войску снарядиться! — шах приказ дает;
Изловить узбека — и вернуть назад
Или — насмерть биться! — шах приказ дает…
Переполошив и взрослых и ребят,
По столице трубы медные трубят,
Шахские гонцы во все концы летят,
И, вооружась, отряду вслед отряд, —
Конники-сипахи по степям пылят.
Вся страна в тревоге. Алпамыш сбежал!
Те, которым шах семь лет тому назад
Раздавал баранов из узбекских стад,
В ужасе теперь друг другу говорят:
«Счастлив, кто таких не получал наград!»
Увидев приближающееся калмыцкое войско, Алпамыш взял оружие в руки, на коня сел — и, на врага идя, сказал такие слова: