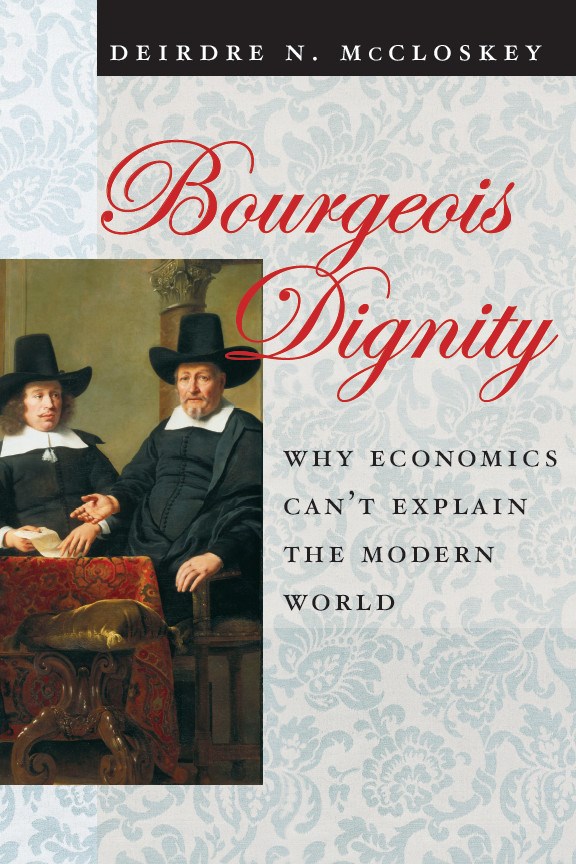в помощь лучшему финансированию космических телескопов, менее полезна для человеческого духа даже на доллар, чем поэзия или ассириология). Но я отрицаю, что современное обогащение, беспрецедентное по своим масштабам и не поддающееся влиянию Мальтуса, в решающей степени зависит от физических и биологических наук. До 1900 г. это было, конечно, не так, и утверждаемый вклад науки в экономический рост в ХХ в. должен быть подсчитан, а не просто возмущенно заявлен на основании восхищения физическими и биологическими науками. Как Британия в 1850 году была далека исключительно от хлопчатобумажной фабрики с паровым приводом, так и мир сейчас очень далек от автоматического токарного станка с компьютерным приводом. Строго говоря, мир без современной электрической, электронной, химической, агрономической, авиационной или, тем более, экономической науки был бы, конечно, беднее, но все же он был бы гораздо богаче мира 1800 года - при условии, что буржуазная переоценка состоялась. И в этом заключается польза экономической науки.
Далее Тунцельман отмечает, что Великобритания не была "особенно заметным лидером в науке", т.е. не была заметным лидером в пропозициональной и прикладной науке, и особенно в прикладной технологии. Научный прогресс от Коперника до Карно был общеевропейским, а в конце XIX века стал ярко выраженным немецким. Однако промышленная революция XVIII - начала XIX вв. была ярко выраженной британской. И несмотря на ошибочную риторику о "неудачах" поздневикторианской эпохи, британцы продолжали оставаться великими новаторами в конце XIX и даже в XX веке: военный танк, пенициллин, реактивные самолеты, радар. Принято считать, что в отличие от французов или германцев британцы не были выдающимися теоретиками (за редкими, но славными исключениями, такими как Ньютон, Дарвин, Максвелл, Кельвин, Хокинг), но, тем не менее, они были очень значительными "лудильщиками" и "грязнулями". Технологи. Буржуа.
Голдстоун защищает научно обоснованный аргумент следующим образом:
Отличительной чертой западных экономик с 1800 г. был не рост как таковой, а рост, основанный на особом наборе элементов: двигатели для извлечения энергии из ископаемого топлива, что до сих пор редко оценивалось историками; применение эмпирической науки для понимания природы и практических проблем производства; соединение эмпирически ориентированной науки с национальной культурой образованных ремесленников и предпринимателей, широко обученных основным принципам механики и экспериментальным подходам к познанию. Такое сочетание сложилось в XVII-XIX веках только в Великобритании и вряд ли могло сложиться где-либо еще в мировой истории.
Особенно можно согласиться с уточнением "с 1800 г.". Экономический историк Джордж Грэнтэм утверждает, что реальная экономическая отдача от континентальной науки - в частности, химии и растениеводства - появилась в результате массового подъема науки в немецких университетах в 1840-х годах, позволившего подготовить сотни тщательных экспериментаторов и теоретиков, некоторые из которых совершили такие открытия, как открытие углеродного кольца. До этого времени наука в Европе занималась в основном как хобби, а на континенте - как непропорционально аристократическое увлечение. "Для того чтобы наука развивалась на широкой основе, - утверждает Грэнтэм, - она не могла продолжать опираться на небольшое число богатых людей, обеспечивающих себе жизнь исследованиями". Таким образом, рост организованной науки предполагал создание институциональной структуры, в которой исследователи получают заработную плату". Как и музыка, она получила огромную поддержку буржуазии. "С интеллектуальной точки зрения, - признает он, - научная революция берет свое начало в открытиях XVII века". Но "с институциональной точки зрения революция относится к XIX", после (я бы добавил) буржуазной переоценки.21 Вот почему наука, важная для нашего эко-номического благополучия, стала иметь большое значение только после 1900 года.
Относительная цена буржуазного положения изменилась задолго до 1900 г. и обусловила крупные и не основанные на науке инновации в целом. Сомневаясь вместе с Тунцельманом, Грэнтэмом и мной в том, что теоретическая наука имела большое отношение к промышленной революции, Роберт Аллен цитирует отрывок из книги голландца Бернарда Мандевиля, автора, которым мы с Адамом Смитом не очень восхищаемся, написанной в 1714 году в Англии. Люди, которые просто "доискиваются до причин вещей", - заявил Мандевиль, - "праздны и нелюбопытны", "любят отдыхать" и "ненавидят бизнес". До 1871 года университеты в Оксфорде и Кембридже исключали евреев и католиков, разумеется, и нонконформистов (то есть неангликанцев, таких как квакеры, унитарии, баптисты, конгрегационалисты, а позднее в большом количестве методисты), что оставляло диссидентские академии, чтобы дать детям нонконформистов образование, которое не внушало бы ненависти к бизнесу, или благосклонно отнестись к изучению аргументации от замысла или трех форм косвенной речи в аттическом греческом. Напротив, начиная примерно с 1700 г. шотландские университеты, как отмечает Аластер Дьюри, приобрели практическую направленность и "не просто занимались тонкостями теологии, а пытались связать научные исследования с промышленным применением". Сама теология в Британии с энтузиазмом присоединялась к ньютоновской науке, как в университетах, так и за их пределами. Шотландские интеллектуалы изобретали социальную "естественную теологию" параллельно с физической теологией своих английских соседей, что стало одним из шагов к шотландскому открытию экономики.
Иными словами, небесная механика и антиклерикализм сами по себе не могли произвести революцию в Европе, так же как Китай и муслимский мир были революционизированы благодаря огромному превосходству в науке, которое они имели до 1600 г. или около того. Простое любопытство и оригинальность горстки Галилеев и Ньютонов не делают промышленной революции. Снова диалог Мандевиля: "Hora-tio: Принято считать, что умозрительные люди лучше всех умеют изобретать всякого рода изобретения. Клеомен: Но это ошибка". Конечно, совершенно невозможно представить себе наше мировоззрение без "Диалогов" Галилея, "Принципий" Ньютона, "Теории Земли" Хаттона или "Происхождения видов" Дарвина. Но без них легко представить нашу промышленность примерно до 1900 года. Новое достоинство и свобода для буржуазии были крайне необходимы. Изобретение Грецией большинства искусств и наук (с заимствованиями из восточных источников), а также частичная свобода сомневаться в богах не произвели революции в греческой экономике и не обогатили бедняков. Древнегреческое общество презирало физический труд как рабский и женский, обесценивало гаджеты (за исключением архимедовых и антикитерских) и, прежде всего, свысока смотрело на буржуазию. Французская наука XVIII века в значительной степени зависела от таких аристократов, как Лавуазье, Лаплас и Жорж-Луи Леклерк (граф де Бюффон), сохраняя славу и аксиоматическую практичность, привнесенную прежде всего Декартом. Как подчеркивает Жакоб, "аристократический характер французских научных учреждений" резко контрастировал с рабочим и практическим тоном в Великобритании. Наука в англоязычном мире в гораздо большей степени зависела от буржуазных, рабочих, бывших экспериментаторов, таких как Ньютон, Пристли, Франклин, Хаттон, Дэви, Томсон.
И не всегда ученые являются предвестниками прогресса. В конце концов, чуть позже, когда буржуазия и ее мировые инновации зашевелились, самые передовые ученые и самые просвещенные мыслители обычно становились самыми