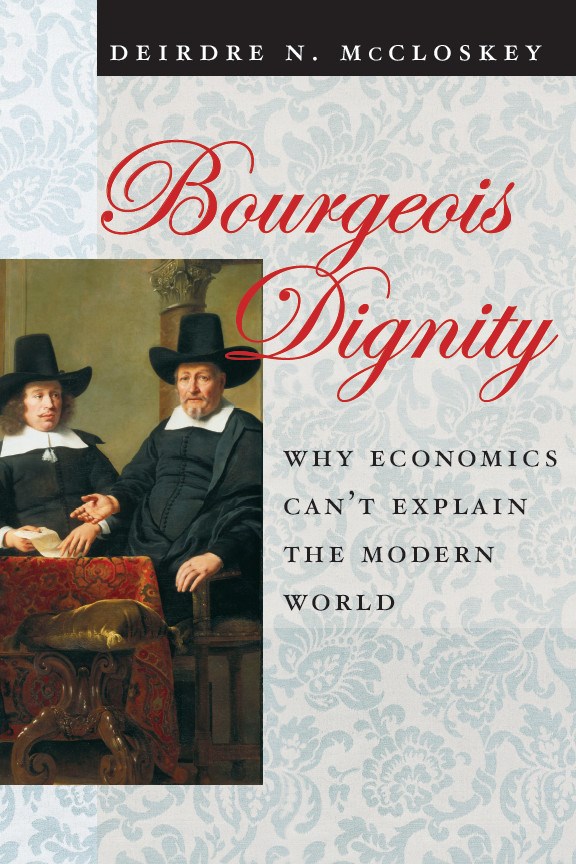яростными врагами экономических инноваций, а зачастую и самыми яростными врагами свободы иметь детей, свободы высказывать свое мнение или свободы жить вне концентрационного лагеря. Социалисты из высшего класса, такие как великий экономист Джоан Робинсон, - пишет экономист и священник Энтони Уотерман, который был ее соучеником в Кембридже, - демонстрировали "патрицианское презрение к капиталистическим актам между взрослыми людьми". Вспомним любимого генетика и статистика Р.А. Фишера (1890-1962), который горячо поддерживал расистскую евгенику; или также любимого эколога, как я уже говорил, Гаррета Хардина (1915-2003), который горячо поддерживал принудительную стерилизацию. Ученые и атеисты - а это не одно и то же - хотя зачастую очень милые люди, не являются автоматически лучшими друзьями человеческого достоинства и свободы, а значит, не являются автоматически лучшими друзьями современного мира.
В 1700 г. ключевым моментом стали не новые науки об анатомии и ас-трономии (ни одна из которых не оказала существенного влияния на развитие промышленности), а новая риторика о буржуазных инновациях. Действительно, кое-что из новой науки улучшило промышленность, как это утверждает Джейкоб в отношении гидрологии. Однако для общего масштаба инноваций, утверждал Мандевиль, важно не наличие ученых, а наличие масс "активных, воодушевленных, трудолюбивых людей, таких, которые приложат руку к плугу, будут пробовать эксперименты [это и есть научное отношение] и уделять все свое внимание тому, чем они занимаются". И особенно важно, чтобы остальные члены общества почитали и освобождали таких людей.
Якоб и Мокир ответили бы, что такие активные люди любого класса все больше сливались с учеными. Мокир, например, утверждает, что "Британия XVIII века была тем, что мы можем назвать технологически ком-петентным обществом. Она изобиловала инженерами, механиками, мельниками, ловкими и изобретательными мастерами, которые тратили свое время и энергию на создание более совершенных насосов, шкивов и маятников". Однако в англоязычном мире такие практические кудесники занимались прикладными вопросами, а не научной теорией, и это главное. Мокир продолжает: "Даже богатые землевладельцы и купцы [в Британии] проявляли увлечение техническими вопросами". Да. В 1752 г. в январском номере журнала Gentleman's Magazine была представлена сложная схема стиральной машины "Йоркширская дева", которая использовалась в действительности. Обратите внимание: к тому времени в Великобритании уже давно считалось, что "джентльмены" интересуются механическими устройствами, отличными от военных машин. Само слово "двигатель", которым когда-то называли охотничьи силки, а затем катапульты и осадные машины.
В 1606 г. в Англии и Шотландии, Америке и Франции к 1800 г. появляются "инженеры" и их деятельность. Она достигает кульминации в жизни инженеров, посвятивших себя полезным проектам промышленного дизайна, экспериментальному безумию, таким как тоннель Темзы Изамбарда Кингдома Брюнеля, железная дорога Great Western и пароход Great Eastern.
Роберт Аллен справедливо замечает, что связь между "промышленным просвещением" Мокира и многими изобретателями была непрочной. Иногда она была тесной, как, например, дружба Уатта с Блэком. Но гончар и член Лунного общества Веджвуд был избран в Королевское общество только в 43 года. Экспериментаторство, сопровождавшее изобретения, продолжает Аллен, в любом случае было необходимо для любой инновации и "имело прецеденты, уходящие в века". Или в тысячелетия, во всех частях света. Несомненно, некие анонимные римляне "экспериментировали", чтобы изобрести римскую арку, а еда - это древний и очевидный случай экспериментирования - без "науки" в современном английском понимании этого слова.
Глава 39
Можно согласиться с Голдстоуном, который, отстаивая старую точку зрения Мар-Гарет Джейкоб и Джоэла Мокира о том, что это сделали технологические идеи, поддержанные эпохой Просвещения, пишет, что "то, что трансформировало [европейское] производство, было всеобщей верой в возможность ... прогресса. . . . Долго стоявшие традиционные барьеры между философами высшего класса, предпринимателями, ориентированными на рынок, крупными промышленниками, квалифицированными ремесленниками и техниками растворились, и все эти группы объединились, чтобы положить начало культуре инноваций".1 Социальная дистанция уменьшилась. Но в таком случае не наука, а "разрушение традиционных барьеров" - именно приход цивилизации, уважающей бизнес, - является ключевым моментом. Укрепление веры в то, что физический, а значит, и социальный мир может быть изменен человеком и не застыл в великой цепи бытия, можно отчасти приписать науке, хотя Реформация, Революции и, прежде всего, Переоценка, безусловно, тоже сыграли свою роль. И с тем же успехом можно считать, что ньютоновская Вселенная почиталась бы за стабильность, как часы, с соответствующими социальными и теологическими выводами. Успех бизнес-проекторов, буржуазных или аристократических, был, конечно, эффективнее науки, чтобы показать людям, что и они, а не только Божья благодать и чудеса, могут изменить положение вещей. К середине XVIII века литератор Сэмюэл Джонсон, хотя и был тори в политике, мог писать в пользу инноваций следующим образом:
То, что попытки таких людей [прожектёров] часто будут неудачными, мы можем вполне обоснованно ожидать; однако от таких людей, и только от них, мы должны надеяться на возделывание тех частей природы, которые пока лежат в запустении, и на изобретение тех искусств, которых еще не хватает для счастья жизни. Если они, таким образом, повсеместно обескуражены, то искусство и открытия не смогут продвинуться вперед. Все, что предпринимается без предварительной уверенности в успехе, может рассматриваться как проект, а среди узколобых умов, следовательно, может подвергнуть его автора порицанию и презрению; и если свобода смеха будет однажды потворствована, каждый человек будет смеяться над тем, чего он не понимает, каждый проект будет рассматриваться как безумие, и каждый великий или новый замысел будет порицаться как проект.
Это декларация достоинства и свободы буржуа, направленная против их врагов в церкви или поместье. В 1550 г. в Англии или в Китае это было невозможное чувство.
Истерлин проводит поразительное сравнение между промышленной революцией и революцией смертности. Он описывает разложение демографом Сэмюэлем Престоном падения смертности на результат простого обогащения при данной технологии и результат технологии при данном обогащении. Разложение Престона, отмечает Истерлин, аналогично разложению экономистом Робертом Солоу самого обогащения на простое накопление капитала и технологию. Он приходит к выводу, что "когда поиски святого Грааля историка-экономиста - причин Индустриальной революции - сводятся к поиску общих черт Промышленной революции и революции смертности, экономические объяснения Промышленной революции становятся менее убедительными". "В поисках объяснения, - продолжает он, - необходимо спросить, что нового появилось на сцене". В отношении обеих революций он вместе с Якобом и Голдстоуном говорит, что это была наука, а вместе с ними и Мокиром - что это был практический менталитет.
Но что также было "новым на сцене" и более точно прослеживает зачатки эколого-номического роста и снижения смертности, так это атрибуция буржуазного достоинства и свободы, например, у Джонсона. В ранней форме она появляется около