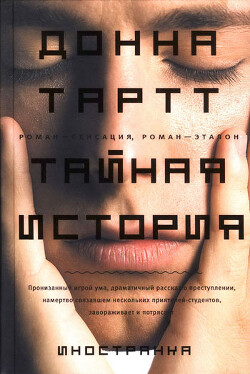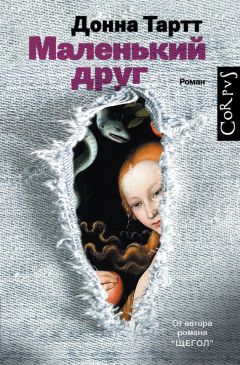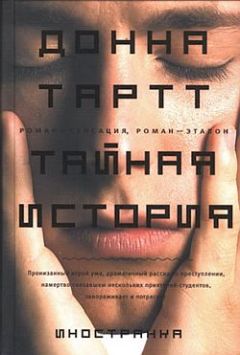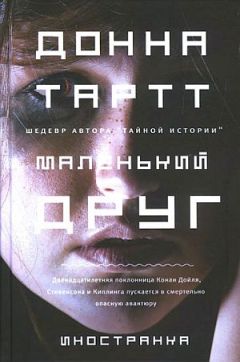Мне вспомнились «Вакханки». От первобытной жестокости этой пьесы, от садизма ее кровожадного бога мне в свое время стало очень не по себе. По сравнению с другими трагедиями, где правили пусть суровые, но все же осмысленные принципы справедливости, это было торжество варварства над разумом, зловещий и недоступный пониманию триумф хаоса.
— Нам нелегко признаться в этом, — продолжил Джулиан, — но именно мысль об утрате контроля больше всего притягивает людей, привыкших постоянно себя контролировать, людей, подобных нам самим. Все истинно цивилизованные народы становились такими, целенаправленно подавляя в себе первобытное, животное начало. Задумайтесь, так ли уж сильно мы, собравшиеся в этой комнате, отличаемся от древних греков или римлян? С их одержимостью долгом, благочестием, преданностью, самопожертвованием? Всем тем, от чего наших современников бросает в дрожь?
Я обвел взглядом лица шестерых, сидящих за столом. Кое-кого из современников, пожалуй, действительно пробила бы дрожь. Любой другой преподаватель немедленно кинулся бы названивать в службу психологической поддержки, услышь он, как Генри излагает план наступления на Хэмпден вооруженных античников.
— Для всякого разумного человека, особенно если он, подобно древним грекам и нам, стремится к совершенству во всем, попытка убить в себе ненасытное первобытное начало представляет немалое искушение. Но это ошибка.
— Почему? — спросил Фрэнсис, слегка подавшись вперед.
Джулиан удивленно приподнял бровь. Длинный тонкий нос придавал его профилю сходство с этрусским барельефом.
— Потому что игнорировать существование иррационального опасно. Чем более развит человек, чем более он подчинен рассудку и сдержан, тем больше он нуждается в определенном русле, куда бы он мог направлять те животные побуждения, над которыми так упорно стремится одержать верх. В противном случае эти и без того мощные силы будут лишь копиться и крепнуть, пока наконец не вырвутся наружу — с тем большим разрушительным эффектом, что их так долго сдерживали. Противостоять им зачастую не способна никакая воля. В качестве предостережения относительно того, что случается, если подобный предохранительный клапан отсутствует, у нас есть пример римлян. Римские императоры. Вспомните Тиберия, уродливого пасынка, стремившегося ни в чем не уступать своему отчиму, императору Августу. Представьте себе то невероятное, колоссальное напряжение, которое он должен был испытывать, следуя по стопам спасителя, бога. Народ ненавидел его. Как бы он ни старался, он всегда оставлял желать лучшего. Ненавистное эго всегда оставалось с ним, и в конце концов ворота шлюза прорвало. Забросив государственные дела и поселившись на Капри, он предался дикому разврату и умер безумным, презираемым всеми стариком. Был ли он хотя бы счастлив там, на острове, в своих садах наслаждений? Нет, напротив, — постыл и отвратителен самому себе. Еще за несколько лет до кончины он начал письмо в Сенат такими словами: «Как мне писать вам, отцы сенаторы, что писать и чего пока не писать? Если я это знаю, то пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем погибаю вот уже много дней». [17] Вспомните тех, кто пришел вслед за ним. Калигулу. Нерона.
Он помолчал.
— Гением Рима и, возможно, тем, что его погубило, была страсть к порядку. В римской архитектуре, литературе, законах хорошо видно это бескомпромиссное отрицание тьмы, бессмыслицы, хаоса. — Он усмехнулся. — Понятно, почему римляне, обычно столь терпимые к чужим религиям, безжалостно преследовали христиан. Как нелепо полагать, что обычный преступник восстал из мертвых! Как отвратителен обычай чествовать его, передавая по кругу чашу с его кровью! Нелогичность этой религии пугала их, и они делали все возможное, чтобы ее искоренить. Я думаю, они шли на столь решительные меры не только потому, что она внушала им страх, но и потому, что она ужасно их привлекала. Прагматики бывают на удивление суеверны. Несмотря на всю их логику, римляне тряслись от страха перед сверхъестественным.
У греков все было иначе. Питая, подобно римлянам, страсть к симметрии и порядку, они тем не менее сознавали, как глупо отрицать невидимый мир и древних богов. Необузданные эмоции, варварство, мрак. — Смутное беспокойство проступило на лице Джулиана, и секунду-другую его взгляд блуждал по потолку. — Помните, мы только что говорили о том, как страшные, кровавые вещи могут быть необыкновенно прекрасны? Это очень греческая и очень глубокая мысль. В красоте заключен ужас. Все, что мы называем прекрасным, заставляет нас содрогаться. А что может быть более ужасающим и прекрасным для духа, подобного греческому или нашему, чем всецело утратить власть над собой? На мгновение сбросить оковы бытия, превратить в груду осколков наше случайное, смертное «я». Помните, как Еврипид описывает менад? Голова запрокинута назад, горло обращено к звездам, «так лань играет, радуясь роскошной зелени лугов». [18] Быть абсолютно свободным… Конечно, можно найти и другие, более грубые и менее действенные способы нейтрализовать эти губительные страсти. Но как восхитительно выпустить их в одном порыве! Петь, кричать, танцевать босиком в полуночной чаще — без малейшего представления о смерти, подобно зверям. Эти таинства обладают необычайной силой. Рев быков. Вязкие струи меда, вскипающие из-под земли. Если нам хватит силы духа, мы можем разорвать завесу и созерцать обнаженную, устрашающую красоту лицом к лицу. Пусть Бог поглотит нас, растворит нас в себе, разорвет наши кости, как нитку бус. И затем выплюнет нас возрожденными.
Теперь уже все мы сидели подавшись вперед и замерев. Я заметил, что у меня открыт рот и я слышу каждый свой вдох.
— Это, на мой взгляд, и есть страшный соблазн дионисийских мистерий. Нам трудно представить себе это пламя чистого бытия.
После занятия я спустился вниз как во сне. Голова шла кругом, но при этом я с болезненной остротой ощущал, что я молод и полон сил и передо мной распахнул объятия чудный день — невыносимая синева неба, ветер, разбрасывающий желтые и красные листья пригоршнями конфетти.
«В красоте заключен ужас. Все, что мы называем прекрасным, заставляет нас содрогаться».
В тот вечер я записал в дневнике: «Деревья охвачены шизофренией и постепенно теряют власть над собой — их новый пылающий цвет свел их с ума. Кто-то, кажется Ван Гог, сказал, что оранжевый — цвет безумия. Красота есть ужас. Мы хотим быть поглощенными ею, хотим найти прибежище в ее очищающем пламени».
Я зашел на почту и, все еще чувствуя непонятный туман в голове, нацарапал открытку матери. Огненно-красные клены и горный поток, на обратной стороне рекомендация: «Если вы хотите насладиться зрелищем листопада в Вермонте, лучше всего предпринять поездку в период с 25.09 по 15.10, когда он особенно живописен».
Когда я опускал ее в щель для иногородних писем, то заметил в другом конце зала Банни. Стоя спиной ко мне, он изучал ряды пронумерованных ящиков. Он остановился примерно там, где находился мой собственный, и, наклонившись, что-то туда опустил. Украдкой оглядевшись, он выпрямился и быстро вышел — руки, как обычно, в карманах брюк, волосы болтаются, упав на глаза.
Я подождал, пока он не исчез, и подошел к ящику. Внутри лежал конверт кремового цвета. Он был новенький, из толстой бумаги, и выглядел очень официально, однако мое имя было написано карандашом, а почерк был детским и неразборчивым, как у пятиклассника. Карандашом была написана и сама записка — маленькие, кривые, разбегающиеся буковки:
Ричард Старик!
Как ты Насчет пообедать в Субботу, где-то около часа?
Я тут знаю одно Классное местечко. Коктейли, все дела.
За мой счет. Буду рад тебя видеть,
твой Бан
PS надень Галстук. Ты б его конечно и так надел просто если без нево (орф.) они тебе Нацепят черт знает что из бабушкиного Сундука.