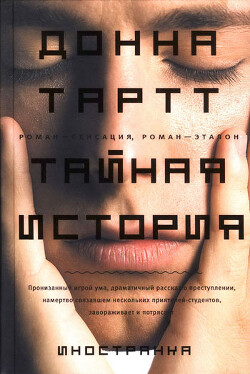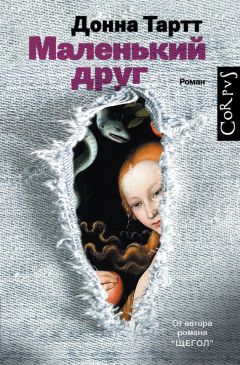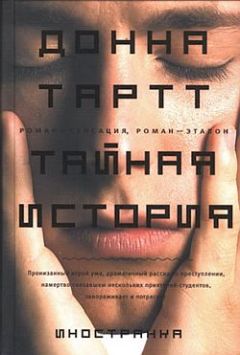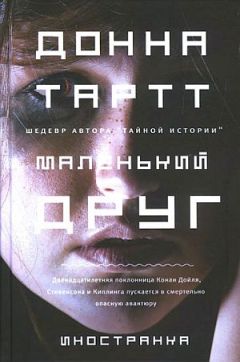— Я склонен предполагать, что он просто не догадывается о том, кто платит за ваше обучение, — произнес он серьезным тоном.
— Ну и ладно, если он не знает, я ему говорить не собираюсь.
Джулиан проводил занятия у себя в кабинете. Его маленькая группа легко там размещалась, а, кроме того, в кабинете было спокойно и уютно, как ни в одной из аудиторий колледжа. Его теория гласила, что обучение лучше проходит в приятной, неформальной обстановке, и превращенный в роскошную оранжерею кабинет, полный цветов в середине зимы, был воплощением его представлений об идеальном учебном помещении, чем-то вроде платоновского микрокосма. («Работа? — крайне удивился он, когда однажды я отозвался так о наших занятиях. — Вы действительно считаете, что это работа? — А что же еще? — Лично я назвал бы все это великолепнейшей игрой».)
Идя на первое занятие, я увидел Фрэнсиса Абернати. Черной птицей он шагал через луг, и полы его пальто, точно крылья, угрюмо хлопали на ветру. Он курил и, казалось, совершенно не обращал ни на что внимания, однако мысль о том, что он может меня заметить, наполнила меня необъяснимым беспокойством. Я нырнул в подъезд и подождал, пока он не пройдет мимо.
Я опешил, когда, поднявшись на лестничную площадку Лицея, увидел его сидящим на подоконнике. Едва взглянув на него, я быстро отвел глаза и уже почти свернул в коридор, как вдруг он окликнул меня:
— Постой.
Бостонский, почти британский акцент, голос ровный, тон слегка надменный. Я обернулся.
— Так это ты новый neanias? — насмешливо спросил он.
Новый юноша. Я ответил, что да, это я.
— Cubitum eamus? [9]
— Что?
— Ничего.
Он переложил сигарету в левую руку и подал правую мне. Ладонь у него была костлявой, с нежной, как у девушки, кожей.
Представиться он не потрудился. После нескольких секунд неловкого молчания я назвал свое имя.
Он сделал последнюю затяжку и щелчком отправил окурок в распахнутое окно.
— Я знаю, как тебя зовут.
Генри и Банни уже были в кабинете. Генри читал, а Банни, перегнувшись через стол, что-то громко и с жаром ему втолковывал:
— …безвкусица, вот что это такое, старина. Я разочарован. Думал, в плане savoir faire [10] у тебя все-таки получше, извини, конечно, за прямоту…
— Доброе утро, — сказал Фрэнсис, входя вслед за мной и закрывая дверь.
Мельком взглянув на нас, Генри кивнул и снова уткнулся в книгу.
— О, кто к нам пожаловал, — бросил мне Банни и сразу переключился на Фрэнсиса: — Ты в курсе? Генри купил себе «монблан».
— Да, и что?
Банни кивнул на стол Джулиана, где стоял стаканчик с черными глянцевыми ручками:
— Я уже сказал, чтоб он был поосторожней, а то Джулиан подумает, что он ее украл.
— Он был со мной, когда я ее покупал, — сказал Генри, не отрываясь от книги.
— А кстати, сколько такие стоят? — спросил Банни.
Ни слова в ответ.
— Нет, ну сколько? Триста баксов штучка? — Он навалился на стол всем своим внушительным весом. — Помнится, ты говорил, что они просто безобразны. Говорил, что в жизни не будешь писать ничем, кроме обычной перьевой ручки. Было дело?
Молчание.
— Дай-ка я взгляну еще разок.
Опустив книгу, Генри полез в нагрудный карман, достал ручку и положил ее на стол. Банни повертел ее в руках:
— Похоже на те толстые карандаши, которыми я писал в первом классе. Это ведь Джулиан присоветовал тебе купить ее?
— Я хотел купить авторучку.
— И вовсе не поэтому ты купил именно «монблан».
— Мне надоел этот разговор.
— По мне, это просто безвкусица.
— Не тебе рассуждать о вкусе, — отрезал Генри.
Воцарилась тишина. Банни соскользнул обратно на стул.
— Ну-ка, давайте посмотрим, кто у нас чем пишет? — объявил он, приглашая всех к обсуждению этого вопроса. — Франсуа, ты ведь, как и я, приверженец простого пера и чернильницы, правда?
— Более-менее.
Он указал на меня жестом ведущего ток-шоу:
— А ты, как тебя там, Роберт? Какими ручками тебя учили писать в Калифорнии?
— Шариковыми, — ответил я.
Банни со вздохом кивнул, едва не коснувшись груди подбородком:
— Перед нами честный человек, джентльмены. Его пристрастия просты. Одним махом все карты на стол. Мне это нравится.
Дверь распахнулась, и вошли близнецы.
— По какому поводу столько крика, Бан? — со смехом воскликнул Чарльз, закрыв дверь ногой. — Тебя слышно на весь коридор.
Банни пустился в пересказ истории с «Монбланом». Чувствуя себя крайне неловко, я забился в угол и принялся разглядывать корешки книг в шкафу.
— Как долго ты изучал античную филологию? — раздался голос у моего локтя.
Это был Генри. Он повернулся на стуле и теперь смотрел на меня.
— Два года, — ответил я.
— Что ты читал на греческом?
— Новый Завет.
— Ну разумеется, ты знаком с койне, [11] — раздраженно бросил он. — Что еще? Само собой, Гомера. И лириков.
Лирики, я слышал, были коньком Генри. Врать я не рискнул:
— Немного.
— И Платона.
— Да.
— Всего Платона?
— Кое-что из него.
— Но всего Платона в переводе.
Я замешкался — чуть дольше положенного. Он недоверчиво посмотрел на меня:
— Нет?
Я спрятал руки в карманы своего нового пальто.
— Большую часть, — сказал я, что было далеко от действительности.
— Что насчет александрийских неоплатоников? Плотина?
— Да, — соврал я (я и по сей день не прочел ни строчки из Плотина).
— Какие трактаты?
К несчастью, в голове у меня воцарилась абсолютная пустота. Что написал Плотин? Кажется, что-то на Э… [12] «Эклоги»? Нет, черт побери, это Вергилий.
— Вообще-то Плотин мне не очень интересен.
— Да? Почему же?
Он задавал вопросы, как следователь на дознании. Я едва ли не с тоской подумал о предмете, который шел у меня в это время раньше: «Основы драматического искусства» у мистера Лэйнина, добрейшей души человека. Лежа на полу, мы должны были пытаться достичь «полной релаксации», а он расхаживал между нами и выдавал фразы вроде «А теперь представьте, что ваше тело наполняется прохладной оранжевой жидкостью».
Очевидно, я слишком затянул с ответом на вопрос о Плотине. Генри что-то быстро сказал по-латыни.
— Прошу прощения?
Он холодно взглянул на меня.
— Ничего особенного, — обронил он и вновь ссутулился над книгой.
— Ну что, теперь счастлив? — услышал я голос Банни. — Уделал его по полной программе, ага?
Я отвернулся к полке, чтобы скрыть смятение.
К моему огромному облегчению, ко мне подошел поздороваться Чарльз. Он был спокоен и дружелюбен, однако едва мы обменялись приветствиями, как отворилась дверь и все затихли. На пороге появился Джулиан.
— Доброе утро, — сказал он, осторожно прикрыв дверь. — Вы уже познакомились с нашим новым студентом?
— Да, — ответил Фрэнсис, помогая сесть Камилле и проворно усаживаясь сам. Тон его, как мне показалось, говорил, что ничего более скучного и придумать нельзя.
— Прекрасно. Чарльз, ты не поставишь воду для чая?
Чарльз направился в маленький, не больше шкафа, закуток. Послышался звук льющейся воды. (Для меня так и осталось загадкой, что именно было в том закутке, а также каким чудом Джулиану удавалось порой извлекать оттуда обеды из четырех блюд.) Чарльз вышел и, закрыв дверь, вернулся на место.
— Ну что же, — сказал Джулиан, окинув нас взглядом, — надеюсь, все готовы покинуть мир вещей и явлений и вступить в область высокого?
Он был изумительным, просто волшебным оратором. Как хотелось бы мне воссоздать на этих страницах всю магию его лекций! Увы, человек с посредственными способностями не в состоянии, особенно по прошествии стольких лет, передать своеобразие и очарование речи того, кто одарен интеллектом в исключительной мере. В тот день речь шла о четырех видах божественного безумия у Платона и безумии вообще. Он начал беседу с того, что называл бременем эго.