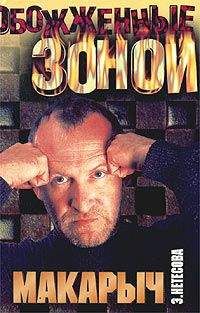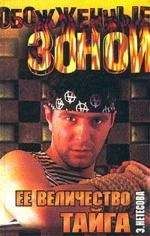— Держись, сынок. Ох-х, едрить твою. Тово и гляди требухой высморкаешься.
Колька громко икал. Он уже много раз прикусывал язык. Отбил зад. И если бы не Макарыч, давно бы вывалился из телеги.
— Серый! Кобель, мать твоя сука! Куды норовишь? Кочергуб те под хвост, легше, грю! Ну, л-л- легше! Олух окаянный. Креста на те нет, — ругался Макарыч.
Колька забыл, сколько раз он соскакивал с телеги за куст и пугал оттуда Серого громкими хлопками. Живот у него разболелся. В нем все бурчало. А дороге не была конца.
— От забралси в пекло, старай летай. К ему не то хворому, здравому не добратца, — ворчал Макарыч.
Но к вечеру они все ж увидели избу лесника. Дорога к ней пошла ровная. Но радоваться этому уже не было сил. Усталые, потные, они вошли в избу.
— Хлеб и соль этому дому, — перекрестился на иконы Макарыч.
— Доброво здравия вам, — отозвался седой старик, сидевший у печки.
Кольке стало жаль его: у Акимыча скрюченные ноги, дергалась голова. А руки были большие и, наверно, сильные. И даже борода куда длиннее Макарычевой.
Колька долго рассматривал старика. Да вдруг чуть не вскрикнул. Он когда-то видел его. Вот у него нет мочки на ухе. И родинка на шее большая, как морошка.
— Нужда али лихоманка какая привела ко мне? — спросил хозяин Макарыча.
Тот оглядывался в полутемноте.
— Я с другой хворобой. Слыхал, Марью ты выходить взялся. Так я к ней.
— Она на ключе. За избой. Ноги в травке парит. Там-то попривольнее.
— Ужо ходить?
— Пока помаленьку. Скоро одыбается.
— То-то утешил.
— С Божьей помощью отошла. А это хто ж, внучок твой?
— Кажись, так.
— Пущай передохнет малость. Потом поснедаем.
Колька понял, что ему надо выйти. Обидчиво шмыгнув носом, вышел. Прямиком направился к чурбаку, что стоял у завалинки.
«Ну и пусть. Подумаешь! Секреты от меня завели. Знаю я их. А у меня, может, все нутро отшибло. Сами будут до ночи говорить».
— Да у нас гостюшек! — услыхал он позади и оглянулся: — Здоров будешь, — сказала женщина.
— А я знаю, вы тетя Марья, — выпалил Колька.
Понравилась она ему. Длинная коса свободно
спускалась по плечу. И глаза добрые, как у Серого. Тоже большие.
— Меня знаешь, а как тебя величают, молчишь.
— Колька я, — подошел к ней мальчишка.
— Имечко у тебя славное. Что ж, тоже к Акимычу приехал?
— Я с отцом.
— Занедужил он у тебя?
— Ага!
— Вот горюшко-то. Что с ним приключилось?
— Не знаю.
— Что ж так?
Колька неопределенно пожал плечами. Тетка Марья совсем ему по душе пришлась.
— Вы чьи же будете? — спросила она.
— Тоже лесники. Но у нас лучше. И баня, и речка есть. И дом большой. А тайга у нас самая красивая, — затараторил Колька.
— Это хорошо. Дай-то вам Бог добра и здоровья.
— Знаете, сколько мы рыбы ловим? Цельную бочку на зиму солим. И икры тоже. Ягод, грибов у нас много. Я сам на медведя с отцом хожу, — соврал Колька.
— Молодец. А у меня вот никого нет теперь, старик-то мой преставился. Одна вот маяться стану, — пожаловалась она Кольке. — Видно, доля моя такая бабья, горькая. Век одной доживать.
Мальчишка хотел уже выложить ей все. Но тут дверь избы отворилась. На порог вышел Акимыч. Увидев Марью, сказал:
— Ты ноги-то прикрой. Ненароком застудишь.
Марья послушно взяла у него одеяло. Хотела
войти, но он ее придержал.
— Побудь на волюшке. Еще насидишься в избе.
Колька тоже решил ничего не говорить. Он понял: так будет лучше. Пусть сам Макарыч скажет. А тот сидел у окна. Курил. Слушал Акимыча.
— Марья покладистая, ладная. Норов в ней ровный. Почитай, тридцать годов с иродом жила. Бил н ее почем зря. Она его кормила, обхаживала. Добра от тово не видя. Другая б давно сама тово лешака живота решила. Энта нет. Закон знает — жена да убоится мужа своево. Тот от дурной болести помер. В город поехал и непутную бабу нашел. Она ево и заразила. Марья и то ему простила. Счастье, что она не жила с ним. Он до тово ее побил, што она в больнице всю зиму пролежала. Ево за это времечко и скрутило. Так-то. За все времечко мужика своево ни разу не забидела. Он же, черт холощеный, и дитя ей не смог сделать. Семя ево никудышнее. Што вода. Хоть в зад вставляй кишки полоскать от запору. Я ее еще в девках помню. Пригожая была. Женихи косяком к ней шли. И надо же, тово мозгляка приглядела! По сердцу пришелся. А сердце девки разума не имеет. Вот и ожглась.
— Пошла б за мине — не жалела б, — встрял Макарыч.
— То ты давай улаживай. Сговорить подмогу, — пообещал Акимыч. И вышел на крыльцо, позвал женщину: —Марьюшка! Иди в дом! Застынешь.
— Ну, пошли, — позвала она Кольку.
Она враз признала Макарыча. Поздоровалась приветливо. Спросила о здоровье.
— Ха! Што я? Ровно на собаке, все зажило.
И вроде не было долгих лет. Будто только вчера виделись. Только примечал Макарыч, как нет- нет да и появится горькая складка в уголках губ — отметина пережитого.
— Так, значит, все один бобылем живешь?
— Да нет, с сыном. Вот хозяйку сибе ишшем, — подморгнул Макарыч Кольке.
— Пора тебе. Дай Бог хорошую.
— Какая есть. Не за зря жа сюды приехал.
— Господь с тобой! — ахнула женщина.
— От Бога не отрекаюсь, но ты мине нужней.
— В своем ли ты здравии? Я мужа недавно схоронила. Сороковины не минули.
— Живое о живом должно думать, — перебил ее Акимыч. — Чего об усопшем поминать?
— Ноги еще у него не остыли. А вы о грешном. По писанью так не велено. Меня за такое осмеют в селе.
— За таково не осмеют. Помнят доброво. И не отталкивай человека. Может, он тебе судьбой послан. Богу видней. Не гневись, но годы твои ушли. Как одна без мужика обойдесся? Послухай миня, старика. Душою чую — хорошо жить станешь. Не вороти ево впустую в обрат. Пожалкуишь потом, — поддакнул Акимыч.
— Мы жалеть тебя станем, поехали, — попросил Колька.
— Что ж делать-то мне? — заплакала Марья.
— А ништо. Я ить настырный. Силком увезу, коль по-доброму не схочишь, — настаивал Макарыч.
— Дай хоть сороковины справлю!
— Э-э-э-э, нет, — не согласился Макарыч.
— Мне ноги надо вылечить, — уже совсем тихо говорила Марья.
— То, голубка, не остановка. Он не мене моево в том кумекает. Выходит не хуже, — усмехнулся Акимыч.
— Ну, что ж. От судьбы не отворачиваются, — согласилась Марья.
Поздним вечером, когда все сели за стол, Акимыч, оглаживая бороду, сказал:
— Ну дай-то Бог вам всево. Я-то хоть жену имел недолго, нехай другие всю жизнь счастливо живут. Да детей родят. За сибя и за миня.
— Тибе тож обошло? — спросил Макарыч.
— Обошло. Вроде вот и сына родил, внук есть, да где они? Позабыли миня.
— А жена? — выдохнула Марья.
— Что жена? Василинушка моя померла давно. Менее года с ней поворковали, да лихой человек помешал. Вдовцом оставил. Я тож каторгу отбывал. Из-за Василинки важнюка убил. До девок был охочь. Сграбастал и мою. Она и заблажила. Он ее давить стал. Она в силе была. Живую взять не смог бы. Тут я ево и порешил. Бог меня прости, грешново. Ну, а сами сбежать порешили с Василинкой. Дале станции не привелось. Заковали обоих. И суд. Дале в этап. Прослышали от своих, про есть неподалеку место, куда нихто не совался, конвойные промеж собой шепотом сказывали про то урочище. Нам с Василинкой повезло. Сбегли туда. Домишко поставили. Огород завели. Сына ждали. А тут, эх, штоб ему и мертвому не спалось! Приехал какой-то черт лысай. Люд переписывал.
Занесло ево и к нам. В ноги я ему повалился, просил, штоб Василинку он не записывал. Обсказал все. Она ж на сносях. — Акимыч умолк. А придя в себя, продолжил: — Мне поселение указом вышло. Ну, а Василинку от титешного забрали. Извели ее. Пять десятков бобылем живу. И все тово душегуба проклинаю. Сына я выходил. Коровенку держал. Жениться боле не схотел. Никому не верил. Сыну свому боялся мачеху привести. Сам постирушки правил. Выкормил. В грамоту отдал. Ноне ученай стал. Мною потребовал. Ране внука привозил. Тот, поди, болыненький стал. Тож меня забыл.
Акимыч замолчал обиженно. Макарыч тяжко вздохнул. Марья задумчиво смотрела на всех. Что-то трудно вспоминал Колька.
— Вы-то про што грустите? О себе думайте.
Мне
уже в могилу сбираться пора. Што с прошлово взять? Ничто не вернуть. Вы вот давайте ешьте, — заставлял Акимыч.
Когда все ложились спать, Колька спросил Акимыча, что у него с ухом.
— Крученым мальцом рос, вот отец и наказал,
рассмеялся тот скрипуче.
— Не-е-е, — не поверил Колька.
— То верно, што нет. В каторге все приключилось. Начальник на разные выдумки был горазд. Сущий пес цепной! С людом ровно со скотиной плохой обходился. Меня шибко невзнавидел. Вот и порешил пометить всех, хто ему поперек глотки стоял. Набралось нас пошти сотня. Он кажному на ухе каленым гвоздем дырку сделал. Так-то вот. Помаялись потом. Ухи пухнуть зачали. Голова пивным котлом шумит. Один даже помер. Кровь спортилась. А мне потом обрезали мочку. Почернела. Тут и сполошился живодер. Велел ухо вылечить. Дохтора не было. Конвоир обрезал. И собаке своей зализать повелел. Та лизала, а я весь трясся, думал, а што коль за горло хватит. Они только на то и учены были. Встал я из-под ней, пришел к своим, меня и не признали. Говорят — седой стал. Меня внучок про то спрашивал. А ишо родинку дергал все. Она у нас потомственная, всем передается.