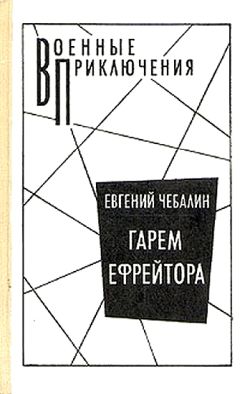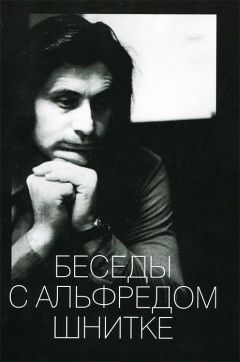— Однако вы здесь при всей нашей примитивщине, — хулигански пнул и рассыпал горделивое строение гестаповца Аврамов. — Торчите, извиняюсь, дурацким пугалом в нашем тулупе. И демонстрируете свою фанаберию.
Осман-Губе молчал. Аврамов исподлобья уставился на его горделиво-верблюжий профиль, зло усмехнулся:
— Ну и хрен с вами. Уважим ваш двадцатилетний стаж. Давайте начистоту, коль вы такой любитель высокого стиля. Значит, так. Через… тридцать две минуты у меня прямой сеанс с Ушаховым. Он все еще при Исраилове. Связь пойдет прямым разговорным текстом. Мы им ни разу не пользовались, контакты вязались морзянкой, я работал в качестве стамбульского шефа Ушахова, шефа, который не мычит и не телится для реальной помощи Ушахову и Исраилову.
На самом деле, на кой черт теперь Стамбулу какой-то Хасан? Его красные ободрали как липку: без войска по горам скачет. Но тут появляетесь в эфире вы, птица берлинского полета, стервятник гестапо, которое привыкло смотреть вдаль. Гестапо нужна агентура Исраилова, сеть его ОПКБ. Частично она в Казахстане, частично в Грозном. Вы ведь заявляли о своем желании завладеть этой сетью перед уходом от Исраилова? Я вас спрашиваю!
— Заявлял.
— Вот. Теперь повторите то же самое Исраилову еще раз. Самолично. Вы скажете: в энский час в энском месте сядет, не глуша моторов, немецкий самолет. Он заберет Исраилова и Ушахова со всеми списками ОПКБ и завербованной агентуры в Берлин. Через Иран.
Конечно, мы можем отбить эту новостишку морзянкой, без вас. Но, господин Осман-Губе, Исраилов описается от радости, услышав ваш родственный баритон. Да и веры больше живому голосу, чем морзянке. Теперь все понятно? Вы готовы? Да или нет?
— Нет, — утверждаясь на крепнущей надежде, отказал Осман-Губе.
«Не так резво, полковник, не так хамски. Если я разговорюсь, то лишь с Серовым. Я слишком много знаю, чтобы опускаться до тебя. Ты ничего со мной не сделаешь, у тебя нет полномочий. А мне надо многое продумать». Отворотившись от бешеного изумления красного, расслабил ноги Осман-Губе и опустился в сани, сморщив гармошкой овчинную свою тюрьму. Сидел, смотрел поверх кустов, обжигаясь щекой о свирепый накал затянувшейся паузы.
— Коней! — вдруг лопнуло над ухом.
Из кустов выводили оседланных озябших лошадей. На них взлетали бойцы-автоматчики.
— Куда этого, товарищ полковник? — негромко, деловито спросил хриплый голос.
— В расход. Вон там, в кустах, — равнодушно бросил приговор Аврамов. — Иванчук, Голещихин, привести в исполнение!
— Есть! — отозвались в унисон две дубленные морозом глотки, и два тугих рычага, уцепив гестаповца под мышки, сдернули его с саней, развернули, повели.
— Быстрей! — подстегнул полковник, и тупая безжалостная сила дернула, повела Осман-Губе рысью.
Чувствуя, чтоу него вот-вот лопнет сердце, он выбросил ноги вперед, буровя траншею в снегу, выкрикнул:
— Стойте! Господин полковник! Мы не закончили! Не обговорили условия!
Бойцы приостановились.
— Какие к… матери условия?! Условия он нам будет ставить, с-сука гестаповская! Выполнять!
Рванувшись изо всех сил, уперся Осман-Губе в саванно-белое, стремительно надвигающееся небытие, заштрихованное кустами. Но оно неотвратимо надвигалось. Тогда закричала в нем фальцетом неистовая страсть к жизненному, такому бесценному остатку, к стерильной чистоте снегов, к морозной щекотке воздуха в груди, к бело-розовому сиянию вокруг:
— Не на-а-до! Я согласен! Господин полковник, согласен!
— Отставить, — велел Аврамов. — Расстегните его. Возьмите себя в руки, Осман-Губе. Успокойтесь. У нас еще двадцать минут. Припомните, где вы были с Исраиловым только вдвоем? Дайте ему текст.
Приветствую Вас, дорогой Дроздов!
Я настаиваю: сделайте все возможное, чтобы добиться из Москвы прощения моим грехам. Они не так уж велики. Карьера и власть — жестокие и не всегда разумные стимулы наших поступков. Я неосмотрительно позволил им завладеть собой, причинив Советской власти столько хлопот и неприятностей.
Прошу прислать мне через Яндарова копировальную и писчую бумагу — 200 листов, тетрадь, доклад Сталина от 7 ноября, военно-политические журналы. Думы кипят во мне, как в адском котле, и я чувствую: там вызревает качественно иное варево, которое может быть полезным для Советской власти. Смею полагать, что от раскаявшегося Исраилова — публично раскаявшегося — будет больше пользы, чем от сожранного туберкулезом.
Я нуждаюсь в лекарствах. Пришлите лучшее из всех. Поверьте, я найду, чем отблагодарить. Мы стояли по разные стороны баррикады, но это было чисто биологическое, национальное противостояние, которое теперь глубоко противно моей душе, как и национализм любого пошиба.
Люди нашего с Вами масштаба обязаны находить общий язык, чтобы не ввергнуть мир в пучину хаоса.
Ваш Хасан Исраилов ТЕЛЕГРАММА
Сталину, Молотову, Жукову,
политическому представительству Англии в СССР,
политическому представительству США в СССР,
в Верховный Совет СССР
Наш чечено-ингушский репрессированный народ в лице его делегаций и представителей абрецких отрядов уполномочил меня передать в ваш адрес телеграмму следующего содержания.
Наш народ не заслужил того репрессивного мероприятия, которое осуществили органы НКВД. Они называют нас (ОПКБ) врагами Родины, фашистскими прихвостнями, наемными агентами империализма. Так ли это?
Нет. В идеологии и теории нашей партии (ОПКБ) было кое-что от национал-социалистской партии Гитлера, в частности: пассивная борьба против засилья вульгарного большевизма и сионизма в России.
Но сейчас ОПКБ — мирная и демократическая организация. Она имела бы в любом другом государстве возможность для легального существования. Но у нас запрещена. Причина этого запрещения ясна: политические авантюристы всех мастей и господа реакционное духовенство типа Джавотхана Муртазалиева, международные шпионы заманили нас в такую политическую паутину, из которой мы не в состоянии сами выбраться.
С течением времени программа и устав нашей партии неоднократно подвергались дополнениям и исправлениям. В настоящее время это вполне демократическая, конституционная партия, основной сутью которой является образование федеративной Республики Кавказ, что отвечает чаяниям двенадцати братских наций, населяющих его.
Успех Красной Армии на всех фронтах должен смягчить ваши сердца, породить в них слова прощения.
Если же невозможно оставить нас на свободе безнаказанными, если невозможно опубликовать амнистию, просим назначить нам наказание — выселение за пределы СССР, по аналогии со следующими фактами:
1. Удаление Шамиля русским царем.
2. Удаление Ленина царем перед революцией.
3. Удаление Троцкого из Советской России Сталиным.
4. Удаление Димитрова из Германии Гитлером.
Хасан ИсраиловШли всю ночь. Под ногами изредка хрупал снег — растаяло и даже подсохло везде, кроме глубоких лощин. К хутору Ошной Кенахоевского сельсовета добрались к утру: Исраилов, Ушахов и двенадцать боевиков, возглавляемых Иби Алхастовым.
Саклю, указанную Осман-Губе в разговоре по рации, нашли сразу: каменная заброшенная коробчонка на краю аула под большой чинарой. Впритык к ней — катух для скота, почему-то запертый на большой ржавый замок.
Выставив автоматные стволы, двое телохранителей ударили дверь, вломились внутрь. Полосы снега на полу, стол, топчан, лавки, давно погасший очаг. Серыми молниями метнулись вдоль стены две большие крысы, исчезли под рваным, в дырах, брезентовым пологом.
Телохранители отогнули полог, всмотрелись в полутьму катуха. Пол густо устлан лежалой соломой, засохшими коровьими лепешками. С низкого потолка бахромой свисала паутина, на грубой каменной кладке стен толстым слоем налипла изморозь. Дверь снаружи заперта на замок, вход в катух только через саклю.
Двое вернулись на крыльцо, позвали:
— Заходите, пусто.
Вошли. Тесно, шумно расселись по лавкам, на топчане.
Ушахов огляделся, шумно выдохнул струю пара изо рта, сказал Иби Алхастову:
— Принесли бы сушняку. Отогреемся.
Телохранитель оглянулся на хозяина — здесь приказывал он. Хасан молча кивнул на дверь. Они в самом деле вымотались до предела и продрогли.
Ушахов перевел дух: одно звено задуманного закольцевалось.
… Через полчаса внесли, грохнули на пол несколько охапок сушняка, затопили очаг.
Исраилов, бросив туго набитый хурджин на топчан (никому не доверил, нес всю дорогу сам), грузно, расслабленно сидел за столом. Подняв голову, велел: