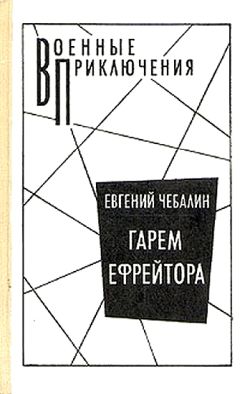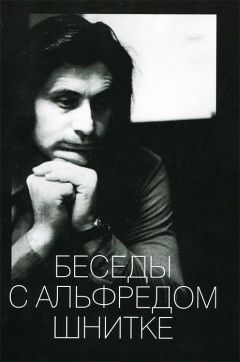— Сейчас, Феденька, сейчас, — молила глазами Надежда, молила о милосердии.
Оделась, взяла кошелку для еды, натолкала туда картофелин, хлеба, закрыла за собой дверь.
— Ну, свояк, докладывай, — извлек из пачки беломорину Дубов. Прикурил, пряча спичку в ковше трясущихся рук.
Завороженно глядя, как кудрявится сизая пелена, заволакивая лицо командира, стал Апти рассказывать. Издалека начал, с того самого караульного, что выгнулся грудью после пули Акуева, брызжа кровяной окалиной на порошу.
Ничего не таил, нанизывал склизкую прогорклость своих мытарств на шампур одиночества. Напоследок оставил Саида, отгрызшего кабаний хвост. И закончил пересказ вопросом, что вызревал в нем нарывом и вот теперь донимал нестерпимой, гнойной болью.
— Зачем Абу к казахам выселяли? Он немца бил, одна рука осталась. Он самый лучший пирсидатель в горах был, совсем красный пирсидатель для Советской власти. Дизиртиров выселяли, кто с германом кунаковал, — ладно. Ты меня, бандита, Саида ловишь, — ладно, хорошо делаешь.
Зачем детей, женщин выселял? Почему сначала Советская власть из чеченца офицер делал, ордена ему давал, потом Казахстан выселял?
Берия выселял. Этот лысый змея Сталину много фотка давал, говорил, надо выселять…
— Когда? Какие фотки? — хрипнул перехваченным горлом Дубов.
— Перед праздником Красной Армии эт дэл было. Сам видал. Лысый заставил Колесникова на Тушаби нападать, их пастухов убивать, овец угонять, потом фотки Сталину давал: война идет, а чечен грузин убивает, грабит.
— Ты что… белены объелся? — задохнулся Дубов. — Ты это откуда взял?
— Сам видел! Хлебом тибе клянусь. Я после того раненый грузин вниз тащил. Не успел, умирал он.
Суеверный ужас заползал Дубову под череп — упорно, давно ходили слухи по горам об истинной сути зверского убийства грузинских пастухов на границе Чечни и Грузии, убийства под предводительством Колесникова. Выходит, есть тому свидетель?
— Сталин лысому верил. Он сапсем, ей-бох, ум потерял, что ли? Кому верит? Шакалу, сыну змей? — воспаленно вопрошал между тем свояк.
Дернулся Дубов, будто слепень жиганул через гимнастерку, метнул взгляд через занавешенные окна, на дверь:
— Ты… язык придержи, умник! Не тебе, шатуну, такие вопросы задавать, слышишь, не тебе! — обессиленно сел.
Осекся, наткнувшись на тусклый и страдающий, как у больной собаки, взгляд.
— Тебя, Федька, много во сне видел. Ей-бох, лучи тебя брата не было, жизня за тебя мог отдать, — сказал измученно Апти. — Почему теперь правду боишься?
Вдруг увидел себя Дубов со стороны. Оскал свой осознал и устыдился до озноба.
— Не пришло еще время для таких вопросов, Апти. Одно могу сказать: я об то февральское выселение рук не замарал. Давай мы про главное: что с тобой делать? Хва-ат. С гор кочетом скакнул да прям на сестру милицейскую. Обработал преседательшу, — изумился Дубов, меряя абрека глазами. — Чего молчишь? Может, планами поделишься?
Созрела нехитрая стратегия у Апти: увести Надежду подальше, затеряться на время в русских лесах. Голова есть, руки с карабином имеются, зверя добывать будет, шкуры продавать, Надежду кормить.
— Спиноза, — похвалил Дубов непонятно. — Дешево и сердито придумал. Надьку с председательского места сдернуть — и в леса ее, брюхатую, тебя обстирывать, жиж-галыш готовить. Долго придумывал?
Не ответил Апти. Не понравился его план командиру.
— Одно ты не учел, — жестко стал добивать Дубов. — Вас на первой же версте, как курят, подстрелят. Надежду сгубишь, вот и вся твоя затея.
— Почему подстрелят? — удивился Апти. — Глаза есть, ноги есть.
— Потому. Два батальона сюда по твою душу идут. Один тропы в горы перекроет, другой все под гребенку здесь прочешет. Допекли вы нашего генерала, самолично летит с абрецкой шоблой рассчитываться.
— Уходить отсюда, Федька, Надя где? — изнывая в тревоге, заворочался Апти, оглядывая зашторенное окно, сквозь щели которого уже просачивалась серятина рассвета. — Нада уходить!
— Надо, — согласился Дубов. Замолчал надолго. Скучно обронил: — Только поначалу у меня спросить не мешало бы.
И, наткнувшись на негнущийся, свинцового среза взгляд командира, вдруг осознал Апти извечный закон загонщика и дичи. Истлело время, где они были спаяны в едином деле. Здесь вросли в табуретки друг против друга милиция и бандит.
«Карабин в спальне, — опалило запоздало острое сожаление, — не успею. Пистолет в хурджине на Кунаке. Руки есть, зубы тоже пригодятся. Пока сидит — стол опрокинуть на него… Начинать надо, сейчас начну…»
— Не дури, — сказал бледный Дубов.
Сидел он напротив замученный, мял ладонями лицо, усмирял в себе гонор пополам с борзым азартом. Костерил себя с беспощадной остервенелостью: «Встрепенулся, с-стервец… Человек ты иль паскуда легавая? Апти ведь это, Апти проводник, безвинно затравленный… Осколок, брошенный в горах. И дорога у него одна — в загон, коль не поможешь, не возьмешь на себя».
Уронил ладони на стол, стал говорить, как гвозди вколачивать, взваливая на себя ломающую спину ответственность:
— Окно вон то, занавешенное, на огородный сорняк, на кустарник смотрит. Выбирайся огородами в лес. И сразу пробивайся в Грузию, пока батальоны из города не поспели. А здесь тебе хана, загоняем и словим, как зайца.
Надежду я через год постараюсь обратно на Волгу, в село Ключи, под Куйбышев, переправить. Запомнил? Когда все поутихнет, пробирайся к ней. А потом…
Истошное ржание ударило вдруг по самому сердцу Апти откуда-то из-за стены. Озлобленный человечий голос, ругань. Захрупали по снегу шаги, взвизгнула дверь в сенях.
Акуев прыгнул к спальне. В щель увидел: распахнулась дверь, вломился милиционер, лицо белое, бешеное, баюкал прижатый к боку локоть. Кривясь от боли, стал докладывать:
— Товарищ майор, жеребец чей-то в амбаре! Ей-богу, бандитская скотина, в руки не дается, за локоть хватанул!
— Ну лови, чего стоишь? — сердито осведомился Дубов.
— Ково… ловить? — моргала покусанная милиция.
— «Ково-ково», — передразнил Дубов. — Бандита. Чаи с ним собирались гонять, свояк он мне. Тебя напужал-ся, в спальню скакнул. Лови.
Апти, холодея сердцем, лапнул карабин, бесшумно вскинул к плечу.
— Вам шутки, товарищ командир, — обиженно шмыгнул носом боец, — а у — меня мускул конским зубом придавленный! — Опять взвилось за стеной истошное ржание. Караульный развернулся: — Ну, з-зараза злючая! Как бы Пантюхина не зашибла! А хозяин точно где-то неподалеку крутится! Кто таков при справной верховой скотине? Разобраться бы!
— Разберемся, — жестко пообещал Дубов, встал. — Сам разберусь. Дальние дворы, погреба — все обыскать! Шагом марш!
— Есть! — Караульный скакнул в сени, выбежал.
Дубов, не оборачиваясь, выцедил:
— Досиделись… Будь здоров, своячок. Авось свидимся.
Все затихло. Апти метнулся к окну, тычком распахнул раму — с треском лопнули желтые газетные полосы, наклеенные по щелям. Морозный чистый простор опахнул лицо. Воля! До черного языка леса, густо заштрихованного понизу кустарником, — рукой подать. На крахмально-белой пороше — щетина бурьяна, длинные языки плетней. Где броском, где ползком…
Сунул карабин в окно, забросил ногу на подоконник. И тут ударило в спину неистовое, злое ржание: изнывал без хозяина истосковавшийся, обозленный Кунак, не давался в чужие руки.
— Ы-ы-ых! — зарычал, стиснул зубы Апти, застыл грудью на колене, отдирая от себя засохший зов жеребца.
Но еще раз заливисто, отчаянно позвал конь: да где ж ты, хозяин?! Нахрапом наползал цепкий расчет: будь что будет! Прикрыл окно, выбежал сени, прильнул к щели. Во дворе никого. Мутный рассвет заливал снега сывороткой тумана.
Чувствуя, как разбухает сердце в груди, метнулся абрек наискось двора к сараю. Рванул на себя дверь, броском вогнал тело в пахучую, на сене настоянную духовитость. Навстречу из полутьмы — белый зубной оскал Кунака, скрюченная, смутная фигура бойца в полуразвороте: кого черт принес?
Падая вперед, рубанул Апти ребром ладони пониже белесого уха. Оттолкнув слабо хрипнувшее тело, осевшее на землю, властно позвал:
— Кунак! Хаволь![26]
Конь ликующе заржал, потянулся мордой навстречу Апти прянул кошкой на конскую спину, припал к шее, гикнул, сжимая в руке карабин. Кунак рванулся в сизый квадрат двери, вымахнул во двор. Коротко, бешено всхрапнул, в три прыжка одолел двор, перелетел через жерди ограды, пошел мерить стелющимися махами рассыпчатую, местами протаявшую до земли, стерильность снегов.
Кренясь, забирал левее — к гигантской щетке леса. Била в лицо, выжимая слезы, ветряная свобода. Апти приоткрыл рот, впуская ее сквозь ломоту зубов в себя. Он успел пропитаться этой свободой до самых костей, когда сзади приглушенно один за другим треснули три выстрела и достало запоздалое: