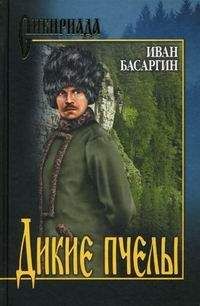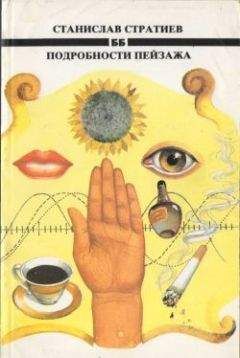Он видел каждую травинку и дружил с каждым муравьем, и если разорял пчелиные гнезда, то делал это исключительно от недостатка глюкозы в крови.
Сидя в одиночестве на чурбаке, он вдруг почувствовал, что в избе мама Оля разговаривает о нем с беженцем. Ромка подхватился и побежал в хату.
Карданов сидел за столом и тяжелым тесаком рубил табак. Зажмурив один глаз, чтобы дым от зажатой в зубах самокрутки не попал в него, бородач, не торопясь, что-то рассказывал.
— Иду, иду, а кругом — все вымерло. Не деревня, а какое-то кладбище. В одну избу постучал, так оттуда старуха мне через окно машет рукой, чтобы я убирался… Правда, один паренек дал напиться, но сильно разговорчивый попался — кто я да откуда, да почему я, мол, такой старый, а борода такая черная. Стал и я его пытать — у кого, мол, могут быть коровы, так этот леший от меня бегом, словно я с ума сошел… Не знаю, о чем думал Штак, когда начинал это дело с быком… Ну о чем он думал?
— Чтоб ты без дела не слонялся, — Ольга вытерла о фартук нож.
— Наверно, так и есть… В следующий раз возьму с собой кого-нибудь из ребят, все веселей будет. — Карданов взглянул на Ромку. — Пойдешь со мной? Мир поглядишь и на тебя, на такого орла, пусть люди посмотрят.
Волчонок энергично закивал головой.
— Как, Ольга, отпустишь своего шпингалета? С ним ко мне вроде бы доверия больше будет.
— Идите, только куда-нибудь поблизости, а то он не выдюжит…
— Выдюжит, я его, в случае чего, на спину Адольфу устрою. Пусть бугай поработает.
Карданов стал сгребать в кучку нарубленный табак.
Ромка уже сидел на лавке, болтал ногами и радовался: предстоящему путешествию.
Но недолгой была радость — его вдруг озарило: уж не пойдут ли они опять в Дубраву? Он соскочил с лавки и бегом — к матери. Затормошил ее за плечо и стал оживленно что-то ей объяснять. При этом его глаза, словно два синих костерка, горели страхом. Мама Оля, ничего не поняв из его лопотанья, прикрикнула: «Не лезь на ножик… Отойди, кому говорят…»
Ромка выбежал во двор, чтобы найти там Тамарку и все ей выложить… Но вместо тетки он увидел спину Вадима — присев на корточки, тот что-то вышаривал под самым нижним венцом пуньки.
Зорок глаз у Волчонка — засек он в руке городского какую-то рубчатую, похожую на семенной огурец штуковину. С небольшим на «рыльце» колечком.
Вадим тоже не промах: заметив Ромку, он как ни в чем не бывало поднялся, руку со штуковиной засунул в карман штанов и, насвистывая, отошел от пуньки. Но Вадим был бы не Вадим, если бы не воздал Ромке за его излишнее любопытство.
— Чего табакерку открыл? — прикрикнул он на него, да еще и замахнулся. Обидно.
Волчонок юркнул в сени и спрятался за бочками. Посидел там, пообдумывал, как разгадать тайну и, убедившись, что Вадима поблизости нет, побежал к пуне. Высмотрел под балкой еле заметное отверстие, просунул в него руку и стал там елозить всей пятерней. Ничего — одна сенная труха. А в ней небольшое углубление, точно жаворонковое гнездо. Экая жалость, не получилась у него разгадка…
Рано утром Ромка с Кардановым и быком Адольфом спустились по дорожке на большак и отправились в путь. Мама Оля смотрела с завора им вслед и негромко хныкала — без слез, как будто исполняла необходимый ритуал.
Ночью прошел сильный дождь, и копыта Адольфа скользили по раскисшей глине, оставляя в ней незатягивающиеся каверны. В связи с холодной погодой Александр Федорович Ольге попенял: «Куды ты отпустила свово карандыша? В такую погоду и борона домой просится…» Ольге возражать не хотелось, и она в утешение своей совести перекрестилась: «Даст бог, все обойдется…»
У Лосиной канавы они свернули на еле заметную тропку — однако убойную, петляющую среди разнотравья.
Вскоре у Ромки замерзли ноги, и он уже дважды отогревал их в парных лепешках, оброненных Адольфом.
На Волчонке был суконный Гришкин пиджак, подпоясанный бечевкой, а на голове вылинявшая солдатская пилотка, неизвестно откуда и как появившаяся на хуторе. Самому Ромке было тепло, вот только ноги зябли…
Вначале он вприпрыжку бежал впереди Карданова, на вскоре, видимо, притомился и все чаще стал плестись в хвосте у Адольфа.
Они шли в деревню Верено, что лежала почти на самой границе враждующих зон.
Не прошло и пару часов, как впереди показались серые избы с соломенными крышами. Их встретила набухшая влагой широкая деревенская улица, а вдоль нее — понурые, словно изготовившиеся к худшим непогодам тополя.
Карданов шел вдоль буйно разросшихся палисадников, в которых больше было чертополоха да лопухов, нежели цветов, и на чем свет ругал Штака.
В четвертой или пятой избе скрипнула дверь и на мокром, накренившемся на один бок крыльце появился человек. Он был на костылях, в старой телогрейке, надетой на голое тело. Мужчина без видимого интереса разглядывал приближающихся гостей. Остановился и Карданов, подыскивая подходящую зацепку для разговора. Однако повода не понадобилось — его самого окликнули:
— Эй, человече, что слышно на белом свете? — Голос был твердый, с металлическими отголосками.
— Какие же у нас могут быть новости? — ответил Карданов, — весь наш свет начинается и кончается в Горюшине. Мы сами с Ромашкой, — кивок в сторону Волчонка, — надеемся тут чем-нибудь поживиться… в смысле, конечно, новостей…
Карданов подошел с быком к оградке и уже мог хорошенько рассмотреть хозяина избы. Узкий лысый череп, клыкастый беззубый рот, зеленоватые, смотрящие в упор глаза. Не мигающие. На правой руке, что уперлась в перекладину костыля, не хватает двух пальцев — указательного и мизинца. Особенно поразила Карданова огромная босая нога — запущенная, с пальцами без ногтей…
— Скажи, человече, — одноногий глянул Карданову в глаза, — кто сейчас в Горюшине за хозяина? Все тот же Ермолай?
— Никакого Ермолая там нет… Петухов Александр Федорович… — Карданов понял, что ему не доверяют. — Вот этот паренек его внук…
— Так… Все так… Значит, жив старый Керен. Вот же кремень, ни революции, ни колхозы его не берут. Искры в разные стороны летят, а ему хоть бы что… Да-а-а… А я вот моложе Керена, а уже обрубок… Не жилец…
Карданов перебил:
— Хоть одна коровенка в деревне найдется? Нельзя такому молодцу, — это он про Адольфа, — возвращаться без любви.
— Трудненько вам будет с бугаем — опустела деревня… Зайдите с мальцем в хату, обсохните маленько…
Карданов привязал Адольфа к оградке.
В темных сенях пахло мышами и заброшенностью. Из комнаты, куда они с Ромкой входили вслед за хозяином, пахнуло непроветренным, спертым воздухом.
Когда Ромка преодолел высокий порог, то первым делом увидел застывшие на краю русской печи три ребячьи головки. Как будто три луны взошли — так одутловаты и бескровны были мордашки обитателей печки. Волчонок съежился и отвернулся от них. Неизвестного происхождения страх исходил от этих неподвижных человеческих голов.
Увидел детей и Карданов. Понял: голод приканчивает еще три жизни. Рука машинально полезла в висевшую через плечо торбу и нащупала в ней кусок хлеба. Но рука оставила хлеб и переместилась на огурец, что дала им на дорогу мама Оля.
Карданов скосил взгляд на посиневшего Ромку, затем опять глянул на печь, и так он метался взглядом, пока его не отвлек голос хозяина:
— Э, не гляди, старик… Теперь мы уже пошли на поправку. Вот только Петька еще поносом свищет…
— А хозяйка? Мать их где? — Карданов присел на лавку, откуда ему хорошо была видна печь.
— Господь бог первой прибрал. А вот я с имя выдюжил. Теперь я что! У нас кислица е, картоха е, скоро яблони начнут доиться, а там, смотришь, орешина на зубок что-нибудь положит…
Хозяин нарочито весело засмеялся. Два его обнажившихся клыка царапнули воздух, а глаза пуговички глянули мимо Карданова, на висевшую над ним рамку с фотографиями. Видно, там была его тоска и его опора.
— Счас мы уже герои, — он притиснул к полу концом костыля до крайности обсосанный окурок. Раздавил его, растер… — Дожили поляки — ни хлеба, ни табаки…
Карданов вытащил из, кармана кисет и положил его на стол.
— Угощайтесь… — И как бы о второстепенном спросил: — Немцы наведываются?
И снова рука беженца пошарила в торбе, будто не знала, что там могло быть.
— Построили топографическую вышку и полдня что-то там рисовали и снимали. Окуперы все время пялились в сторону Лоховни — видать, блокаду партизанам готовят. У-у-ух, кадеты! — хозяин стукнул костылем об пол, и на его изможденное лицо надвинулся какой-то землисто-зеленый оттенок. И злорадно: — Но в ту же ночь, то есть в нынешнюю, партизаны эту вышку пилой под корень…
Ромка видел, как щетинистая щека человека задергалась, словно хотела стряхнуть с себя что-то колко-обжигающее.
Ромка, конечно, не знал о происхождении у людей нервных тиков, хотя и сам после смерти бабы Люси и Борьки был им подвержен. Первой это заметила Тамарка: однажды левое веко Волчонка вдруг странно ожило и, несколько мгновений само по себе трепетало. Тамарка даже положила на глаз палец, чтобы укротить пульсирующую точку…