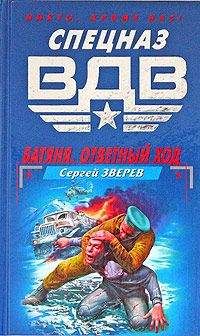– Таки да, – подхватил Лева. – Мы в засаде годами ждали, принцесса. Извини меня, Маш. Сколько лет, говоришь, прошло? Одиннадцать? Двенадцать?
Она подошла к нему вплотную и внимательно посмотрела в глаза. Он удивился, потому что не смог обнаружить в Марии разительных перемен. Кроме мелких бытовых трещинок по краям глаз.
– Губский… – прошептала она, – а помнишь, как однажды, во время допроса, ты закрыл дверь, а потом мы с тобой… ну как жирафики, честное слово… Анекдот, да, Губский? А ведь мне тогда было меньше, чем тебе бы за меня дали.
– А это меня лукавый попутал, – охотно объяснил Лева. – У меня тогда с женой были колючки, а тебе лишний перепихон – что слону дробина. Или жирафику, гы-гы… Правда, Маша? Помнишь свою излюбленную коронку: любовь с тремя? Как ни крути, Маш, а это «вертолет». Круто.
– Со старыми пердунами, – фыркнула Мария. – Это так отвратительно, Губский, – пердуны в моей жизни… Слушай, а скажи честно, ты же пришел не топить меня? Зачем тебе это надо? Губский, я уже не та. О моем прошлом никто не знает, я овечка, честное слово. Хочешь, поблею. Не топи меня, Губский, а?
Лева улыбнулся – как старый, испытанный приятель.
– Да разве мы нелюди? – сардонически оглядел ее с мокрой головы до изящных щиколоток. – Живи, Мария. Размножайся. Но поработать тебе придется. Головой. А пока давай – сообрази чего-нибудь на столик. Пожуем. Живот урчит – спасу нет.
– Конечно, Лева, – Мария Андреевна запахнула халатик и засуетилась. – Ты как насчет винца с икоркой? С красенькой…
Губский махнул рукой, падая на кушетку:
– Неси… Надоели мне эти рыбьи яйца, да ладно, что с тебя взять?..
У бывшей валютной проститутки Проценко осталась неплохая квартира. Маленькая, но уютная. Хозяйка, обретшая новый имидж (на что, кстати, потребовалось немало фантазии), трепетала перед Левой, метаясь из кухни в комнату. Былую жилку она сохранила: на журнальном столике перед Левиным взором возникали продукты, о существовании которых он уже не помнил: икорка, балычок, мясцо подкопченное, шпандауэр с вишней (не путать с Шопенгауэром), початая бутылка «Кубанского». Попутно он впитывал информацию. Да, Маша обрубила порочные связи, отныне она благочестивая Марта, подумывающая о вступлении в марьяж, но как огня боящаяся брака по просчету. В фирме ее уважают. Кравцов ценил как незаменимую работницу (ну, конечно, он просто не знал, что такое «вертолет»), Осенев без нее и шага не делает, и попади она, Маша, в какой переплет, офис просто развалится… Но она боится за свою работу. Новому директору (а его шаги уже слышны) ее достоинства могут быть глубоко по барабану, и вполне вероятно, что свою работу он начнет с кардинальной чистки руководящих кадров. В том числе секретарских. Тогда полетят все. Мария Андреевна, Осенев, Туманов, Котляр, Бушуев… Убил кто-то из них? Бред, Лева, бред. Именно посему они и не могут убить. Потому что кушать хотят. В концерне не практикуется преемственность – директор назначается Москвой, зам никогда не станет первым. Новая кадровая политика, итить ее…
Выпили по маленькой. Закусили балычком. Маша невзначай изобразила коленку и подсела поближе к Губскому.
– Ништяк, – заключил Лева, слизывая с вилки вкуснятину. – А теперь колись, путана.
– Лева, ты почаще заходи, – Маша нарисовала вторую коленку и скакнула еще ближе. – Будем икорку кушать, балду гонять…
Губский не всерьез нахмурился:
– Ты мне, подруга, зубы не заговаривай. Я сказал колись – значит, колись, – и снисходительно смягчился. – Сперва, Маша, дело, а уж потом гуляй смело. Ну, начинай. Или еще по маленькой?
Как и ожидалось, в плане подкованности по кравцовским кадрам Мария оказалась сущей находкой для шпиона. В обмен на обещание хранить страшную тайну она сдала с потрохами все ближайшее окружение Кравцова. Соорудила каждому, так оказать, резюме о его реноме. Из маленьких пикантностей: исполнительный директор Барчуков страдает активной клептоманией – он ворует, но весьма талантливо, не оставляя следов. Правая рука Бушуев – стар, да удал – любит молоденьких мальчиков, в частности, крутит такой трогательный, обжигающий романчик с одним милым пареньком из отдела снабжения, обожающим белые манишки и плюшевых зайчиков. Осенев ничем не страдает, кроме трусости, но считается специалистом экстра-класса – ибо обладает ненормальным нюхом на конъюнктуру. Туманов – темная лошадка, но воз тянет; Котляр – бука, но тоже не бездельник; уборщица на даче Кравцова – осведомительница органов; охранник Донец, помимо испепеляющей страсти к бабам, ничем не знаменит (но зато какова страсть!); шофер Толстых сколько-то лет назад возил Винта, но парень неплохой…
– Стоп, – очнулся Губский. – Это не тот Винтяра, что держал Тулинский рынок? Где-то в середине девяностых, так?
– Наверное, – Мария пожала медленно оголяющимися плечами. – Крупный был авторитет. Уважали его.
– Уважали – не утопили бы как собаку, в поганой яме… Hу-кся, Мария, вопросец на засыпку – кто был у Винта в бригадирах?
– Ой, Лева, я не знаю…
– Да брось ты, Маруська, не жеманься. Ну давай по порядку: Слон…
Маша вздохнула. Вестимо, не женское это дело – копаться в авторитетах.
– Ну, Крапчатый… Ну, Крокодил…
– Все?
– Все…
– Правильно, дорогуша. Крапчатого подстрелили в девяносто восьмом, Слон сам утоп – закусывать надо. Крокодил – в миру Крокотов Сергей Сергеевич – здравствует и держит Юго-Западный и Станиславский жилмассивы. Пока держит. Должности бригадиров упразднил.
– Сам, что ль, везде бегает? – засопела Мария.
– Назвал по-другому.
– Ну…
– А при чем здесь Толстых?
– А я откуда знаю?
– Маша!..
– Ой, ладно, Губский, не ори, – Мария поморщилась. – Кравцов под Рождество отмазывал шофера. Тот влетел в какую-то историю с хреновым эпилогом, получил повестку… По-моему, в разговоре пару раз всплывало слово «Крокодил»…
– Дальше, Маша, дальше.
– Все, Губский. Шабаш, – Мария Андреевна глубоко вздохнула, словно раз и навсегда сбрасывая с души тяжелый камень. – Больше ничего не знаю. Буддой клянусь.
При этом халатик окончательно упал с плеч, оголив непорочную в своей белизне красоту. Губский задумчиво уставился на сотканное из перламутра монисто, обвивающее шею. «А ведь были когда-то и мы рысаками…» – с неожиданной грустью подумал он.
– Ты кушай, Лева, кушай, – проворковала Мария Андреевна. – Рюмочку плеснуть?
– Слушай, Маша, а почему ты не спрашиваешь, тороплюсь ли я? – внезапно с хрипотцой выдавил Губский.
Маша привстала, вынула из-под попки халатик, отложила в сторонку. Сделала сладкие потягушеньки… Лева зажмурился.
– Лев Васильевич, вы не торопитесь?
– Тороплюсь, сестричка, – он облизал пересохшие губы. – Просто ужас как тороплюсь. Давай в другой раз, хорошо?..
В Машином толковании это звучало бы как «гонять балду». В толковании Левы это звучало бы как сущая глупость.
– Мы вынуждены передать информацию в ФСБ, – пробухтел Дроботун, явно не пребывая в восторге от своих слов. – Нам с ними ссориться нельзя.
Губский с легким презрением молчал.
– Можешь не раскрывать источник. Ты не обязан это делать. Мне ведь ты его не раскрываешь. Хотя я его и так знаю – старого пройдоху не обманешь. Мы не дураки.
– И они узнают, – огрызнулся Губский. – Тоже не дураки.
– А это бабушка надвое сказала. Умеючи преподашь – не догадаются. Все, иди. Некогда мне.
Информации, по существу, было негусто. Ниточки терялись, следы путались. Уяснили одно: в ночь убийства на территорию дачи въезжал крупный автомобиль – земля запечатлела внушительный протектор. Шины свеженькие. И на том все. Шофер с охранником испарились, джип канул в параллельные миры. Делать было нечего – Лева взялся за внештатных стукачей. Проститутки у Центрального «хотэла» ничего не знали. Про фирму «Муромец» они, конечно, слышали, но в профессиональном плане до общих дел как-то не додумались. Может, и обслуживали кого из руководящих товарищей (разве всех упорядочишь?), но так ведь «они нам не докладываются. Это мы вам докладываемся, Лев Васильевич (когда рты не заняты), а нам – ну никто не жаждет…» (дружный смех). Полулегал азербайджанец Джафар, по существу ничего не поведав, проплакался в жилетку. «Лэв Васылич, дарагой, савсэм все плохо, да? Выручка падает. Жмут атавсюду… Китаезы, ваши, кузбасцы… А Джафаров нэ дэсять, Джафар одын – тому отдай, этому отдай… Мазарбэк уехал – какой бизнес, скажи? Тенгиз в больнице лежит, да? Череп Тенгизу пробили, груд сломали, совсэм нэ живой Тенгиз… Одын Джафар остался… Хожу и нэ знаю, проснусь ли завтра, нэ проснусь… Уеду я, Лэв Васылич, бла буду, уеду…» Лично на рынке Джафар не появлялся уж, поди, года полтора. Арбузами торговали русские девчата, а выручку приносили Джафару на дом, причем подогретые антикавказским настроем в обществе, стали дружно мухлевать. На все про все Джафара действительно не хватало – на провоз в губернию, на аренду хранилищ, на девочек, на рэкет, на милицию. Губский брал с него информацию, держал в узде особо рьяных, и только благодаря этому Джафар еще держался на плаву, судорожно сводя концы с концами. «Нэт, дарагой, ничем нэ помогу, – развел он руками. – Рад бы, да нэчем… «Муромэц», говоришь?.. Кравцов, да?.. Нэ-э, дарагой, впэрвые слышу. Ты Джафара знаешь – кабы знал, дарагой, пэрвому бы сказал… Ты сходы к Саид на Октябрьский рынок, дэвочки памогут, скажешь – от Джафар, он мэня уважает…» Вряд ли имярек мог помочь. Задушенный анонимными патриотами, торговец Саид два дня провалялся в сточной канаве за Инструментальным заводом, и теперь тамошние пинкертоны усиленно чесали затылки и подбрасывали монетку: браться, не браться… Мелкие «драгдилеры», толкающие по подворотням ханку, на вопросы Губского виновато разводили руками – мол, ни бум-бум, начальник. Тусующаяся на привокзалке шелупонь болтала много, но не по существу. Толику конкретики выдал лишь один, Венька Шашлыков – мелкая сволочь, косящая под большого блатняка. Худой, кривоглазый Шашлык днями напролет болтался в курточке-кенгуру по городу, подворовывая на хлебушек, и в блатных кругах слыл существом безобидным. Но сам себя при этом мнил первым лихачом, причем временами обоснованно. Что ни говори, а находила на него дурь – любил Шашлык рисковать. Влезал в аферы и балансировал на грани могилы. Где-то, видно, прослышал, что Губский задает вопросы, и сам привалил в управление, не таясь. Ну не дурак ли?