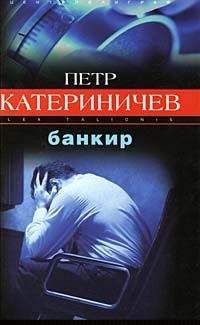— У Куркуля нос переломан, сотрясение, может, на черепушке трещина. Ну и щека, ты же видел, штопать надо.
Гога понятливо кивнул:
— Это хорошие новости. Теперь давай плохие. Семен помялся, произнес, глядя в пол:
— Грач умер. Преставился, значит.
Гога только кивнул, словно ожидал именно этого ответа. Семен потоптался: дескать, идти мне уже или как? Не выдержал, спросил хозяина:
— Чем это он его?
— Что? — не расслышал вопроса занятый своими мыслями Гога.
— Чем его Седой так приласкал? Ни на голове, ни на теле — ни единого повреждения.
У Гоги защемило сердце: он вспомнил безлично-стылый взгляд Седого, свой страх — да что там страх! — дикий, всепоглощающий, нечеловеческий ужас, и от одного этого воспоминания судорога снова ледяной искрой пробежала по рукам.
Не дождавшись ответа, Семен уже собрался было отойти прочь, но любопытство оказалось сильнее.
— Каратист? — спросил он.
— Хуже, — едва слышимым шепотом произнес хозяин, уставив невидящий взгляд в пустоту. — Дьявол.
* * *
— Третий вызывает Первого, прием.
— Первый слушает Третьего, прием.
— На наблюдаемом объекте осложнения. Уровень "С".
— Уточните.
— Внутренняя свара. Разборка. Возможно, двое раненых. Как поняли, прием?
— Вас понял. Уточните характер разборки. Огневой контакт?
— Нет. Рукопашная схватка между двумя людьми объекта-1. Теми, что приехали место посмотреть перед прибытием босса.
— Ну и что они не поделили? Лишнего выпили?
— Да нет, пили как раз не особенно.
— Что тогда?
— Один сильно борзый. Вроде как малохольный. Может, и контуженый, сейчас таких много бродит…
— Третий, докладывайте, а не философствуйте.
— Виноват. Я просто хотел, чтобы картинка была ясна. Да, в драку вмешался один из работников ресторана. Очень результативно врезал одному из этих…
Вырубил, короче.
— Он охранник? Боевик?
— Нет. Просто работник. И весь седой, хотя и не старый. Как поняли, Первый, прием?
— Понял вас. Продолжайте наблюдение. Ждите инструкций.
— Есть.
— Конец связи.
— Конец связи.
— Скука правит миром! Не власть, не деньги, не удовольствия! Всего лишь — банальная скука! И стремление от нее убежать, исчезнуть, скрыться! «Забыться, умереть, уснуть… Уснуть… И видеть сны…»[1] Что есть все наши развлечения?
Что есть вся наша жизнь? Всего лишь сон, кратковременный, мимолетный, навеянный серой обыденностью и тупой, непроницаемой, как грязная ватная одурь, скукой!
Лишь иногда острая тоска по уходящему чиркнет по монотонности дней горькой блестящей искрой, лишь иногда слезливая теплая грусть вспомнит о стелющихся над рекой летним вечером ивах, о первом трепетном поцелуе, о первой любви, о первом опьянении снами… Лишь иногда клубящаяся печаль выдуманной ностальгии напомнит о берегах, где не был, — и вновь окаянное, черно-блеклое настоящее заштрихует всех нас серо-асфальтовой зеброй, по которой потомки и пойдут в возможное светлое завтра, за горизонт, оставив нам нашу скуку, и ничего кроме скуки! Так выпьем за Ее Величество Скуку, заставляющую нас петь, смеяться, любить и ненавидеть! Выпьем за скуку, заставляющую нас жить!
Маленький толстенький человечек, этакий миниатюрный постаревший сатир, с редкой бородкой, с блестящим черепом, обрамленным остатками волос на некогда кучерявой голове, единым духом осушил стаканчик, будто в полусне.
— «Мне скучно, бес…» — распевно продекламировал он и в полном опьянении завалился на сиденье лимузина.
— Складно изложил, Стасик! — похвалил произнесенную речь сидевший в кресле напротив почти двухметрового роста богатырь лет пятидесяти пяти, Сергей Петрович Батенков, владетельный князь и сиятельный барин здешних мест. — Вам нравится, малышки? — спросил он у сидевших рядышком девочек лет пятнадцати, наряженных в школьную форму середины семидесятых, в белых передниках и гольфах, с крупными белыми бантами в волосах.
— Я ничего не поняла. Папа, — произнесла тоном обиженной несправедливостью ученицы пухлогубая нимфетка. — Станислав Львович всегда такой путаный! — Она тряхнула льняными волосами, поправила бант, спросила балованно:
— Папа, а можно мне капельку шампанского? Ка-а-апельку?
Слово «Папа» она произносила с ударением на последнем слоге. Сейчас, когда она сидела глядя Батенкову прямо в глаза влажными темно-карими глазами, он чувствовал невероятное возбуждение…
— Можно? — переспросила девушка с легкой хрипотцой в голосе.
Сергей Петрович, не желая показать, как он взволнован, только кивнул. Он не спешил: предвкушение и игра доставляли ему наслаждение не меньшее, чем острая, искрометная близость. Блондинка привстала, потянулась в бар за открытой бутылкой, расчетливо наклонившись так, что платьице сзади приподнялось…
Батенков подавил вздох. Эта Оля своими трюками умела доводить его почти до безумия! И только желание новизны заставило его смирить излишнее волнение; он взял за подбородок вторую девчонку, Катю. Черноволосая и синеглазая, она была очень хороша собой; девушка подняла глаза. В ее взгляде он прочел и стыдливость, и любопытство, и вожделение… Карай не обманул — девчонка целомудренна. Сергей Петрович провел подушечками пальцев по ее щеке, поцеловал в губы, почувствовал ответный поцелуй, нежный и неуверенный… Чуть отстранился, заглянул в потемневшие Катины глаза; щеки девушки залил румянец. Катя тут же опустила взгляд, словно боясь, что мужчина прочтет в ее глазах то, что уже успело нарисовать ее юное воображение…
— Ну вот! — надула губки Оля, обернувшись и со скорой ревностью отметив внимание Батенкова к подруге. Вздохнула совсем по-женски: дескать, мужики все такие, за ними не уследишь… Но особенно горевать не стала и тут же, с бокалом в руке, озорно запрыгнула Сергею Петровичу на колени., — Папа, я знаю, я все равно лучше всех, но если ты хочешь… — Дыхание ее сделалось прерывистым. — Хочешь, я подготовлю ее для тебя? Хочешь?.. — Она пошептала что-то мужчине на ухо, щекоча его шею завитками волос, и притом очаровательно покраснела. — Я же этого никогда не делала… — Добавила:
— Но пусть тогда она тоже, ага? Договорились? — Девчушка озорно обернулась к темноволосой и показала ей язык.
Лимузин чуть замедлил ход, скрипнув рессорами на повороте, Станислав Львович скатился с сиденья на пол, проклюнулся, лупая спросонья заплывшими глазками и не понимая, что происходит; потом взгляд его пришел в норму, если постоянное состояние опьянения, близкого к обмороку, можно считать нормой…
Впрочем, Станислав Львович в этом состоянии даже не пребывал, он в нем жил; горячечный мозг освобожденного от забот о собственном пропитании интеллектуала выдавал то жемчужины, то плевелы. Впрочем, босса забавляло все; Станислав Львович был при Батенкове как шут при феодальном бароне, как образованный раб при римском патриции, умный и безвольный, много говоривший о свободе, мечтающий о ней и никогда не согласившийся бы променять на нее свое сытое и пьяное рабство. Все это Сергеи Петрович знал изначально: так называемая «творческая народная интеллигенция» времен развитого социализма была не способна ни к чему, кроме прислуживания и пустой говорильни; ну что ж, Станислав был не из худших, пусть отрабатывает свой щедро намазанный маслом кусок!
Словно уловив последнюю мысль хозяина, Станислав по-львиному тряхнул лысой головой, что было забавно само по себе, устроился на полу, сложив пухлые ручки на груди, и уставился Оле под юбку.
— Это заблуждение, мон женераль, что красота открывается только с высоты орлиного полета! Червь — вот истинный ценитель прекрасного! Ибо только он один знает, как быстротечна, коротка и неприглядна жизнь, ибо только он один ведает, во что превращается красота и совершенство там, под сенью праха!
— Папа, он дурак! — капризно надула губки Ольга.
— Нет, малышка. Просто у него работа такая.
— Дурак! И говорит глупые и неприятные вещи!
— Устами младенца глаголет истина, — погрустнел Станислав, уселся на пол, свесил голову, вздохнул:
— Содержание перетекает в форму, форма — в содержание… Человек становится тем, чем желает казаться… Маска и лицо сливаются, и вот уже люди боятся сорвать маски с «друзей», чтобы не увидеть под веселыми забавными рожицами желтые кости черепа в лохмотьях мяса, пустые и темные глазницы…
— Папа! Пусть замолчит! Заткнется! — оборвала его монолог девочка. — Он страшный, неопрятный и противный!
— Отдохни, Стасик, — бросил Батенков. Шут с обиженным видом уселся в кресло и уставился в окно.