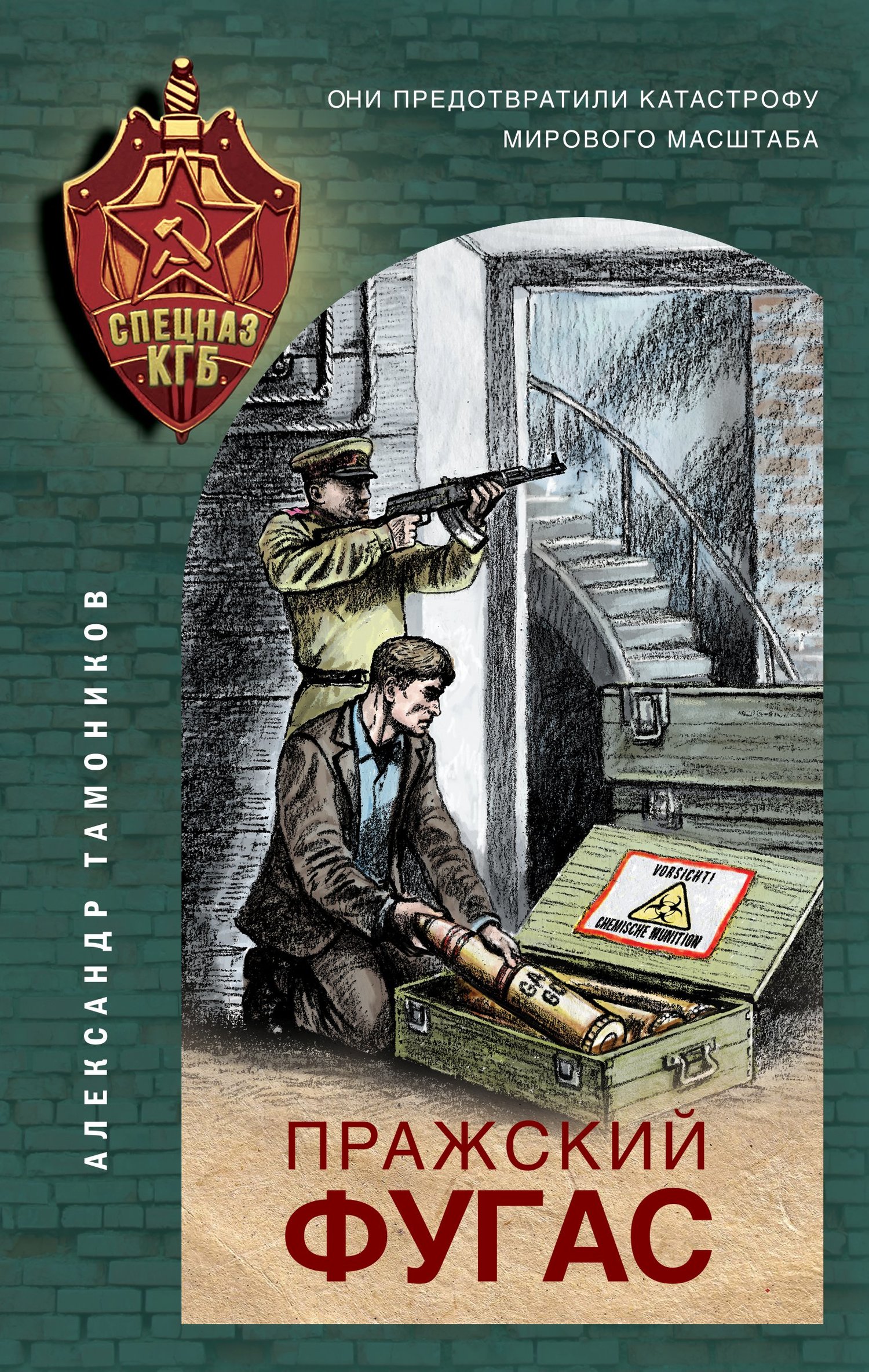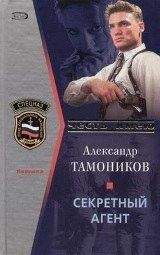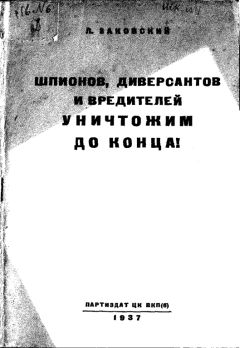много вопросов перед засадой.
– Тебя как звать? – спросил Мажарин у солдатика.
– Рядовой Калинин! – отрапортовал солдатик, помедлил и добавил: – Иван.
– А скажи-ка ты мне, рядовой Иван Калинин, что ты думаешь об этих бумаженциях? – спросил Мажарин.
– Серьезные бумаги, – важно ответил солдат.
– И с чего ты это взял?
– Ну, как же… Находятся они в аккуратном виде, все пересчитанные и перевязанные, да еще и упакованные так, чтобы не промокли. Ясное дело, что серьезные. Пустячные бумаги не стали бы перевязывать и упаковывать. Давно бы они сгорели в печке.
– И я так думаю, – сказал Мажарин. – Серьезные бумаги…
– А то! – согласился рядовой Калинин. – К тому же, мне так думается, их подготовили к отправке. Куда-то очень далеко. А иначе для чего их было делить на кипы и упаковывать?
– А ты мог бы разобрать, что в тех бумагах? – спросил Мажарин. – Я не могу. Ясно, что написано на иностранном языке, но это не польский и не немецкий. К тому же всякие значки и закорючки…
Рядовой Калинин взял одну из бумаг и долго в нее вглядывался, шевеля губами и морща лоб. Затем отложил бумагу в сторону и сказал:
– Нет, и я не могу тоже… Да у меня и образования-то всего семь классов! Тут, пожалуй, нужен кто-нибудь поученее меня. Какой-нибудь профессор…
– Угу… – задумчиво произнес Мажарин и глянул на бойцов. – Значит, так, братцы. Вот эти все бумаги забираем с собой. Будем разбираться, что в них написано и нарисовано…
* * *
Что же касается обыска в доме, где предположительно проживал таинственный спутник не менее таинственной женщины, то этот обыск проводил Кирилл Черных вместе с другими пятью солдатами. Ничего компрометирующего при обыске найдено не было, а вот сведения, которые попутно раздобыл Черных, оказались очень даже любопытными и многозначительными.
Незнакомец действительно проживал в этом доме. Но он не являлся хозяином, он был квартирантом. Так Кириллу поведал хозяин дома. Хозяин же оказался не простым человеком, а ни много ни мало профессором медицины. Так, во всяком случае, он отрекомендовался Кириллу. Помимо польского, хозяин владел еще и русским языком, поэтому разговор с ним не вызывал у Кирилла особых затруднений.
Затруднения заключались в другом. Они касались квартиранта. Профессор (а он проживал в доме один) почти ничего не знал о своем квартиранте. Так, во всяком случае, он сказал Кириллу. Единственное, что профессор сообщил, это то, что его квартирант вроде бы какой-то важный гражданский чин, прибывший в Краков из Варшавы и снявший на время угол в профессорском доме. Вот и все сведения.
– Как зовут профессора? – спросил Мажарин.
– Зигмунд Моравецкий, – припомнил Черных. – А что? Ты думаешь, что никакой не профессор, а…
– Может, профессор, а может, и не профессор, – пожал плечами Мажарин. – Дело по большому счету не в этом. Дело в другом. Странно получается: почему этот специалист из Варшавы поселился у профессора? Почему, к примеру, ему не выделили какое-нибудь другое жилье из правительственного фонда, коль уж он важный чин из самой столицы? Проверить бы этого профессора как следует…
– Я понял, – сказал Черных. – Наведу справки. Думаю, что профессоров в Кракове не так и много. Профессора, они должны быть на виду. И коль он и вправду профессор, то о нем должны знать.
– Вот и проверяй, – распорядился Мажарин. – А мы с Семеном займемся допросами. Значит, так. Ты, Семен, дожимай хозяина ресторана. А я тем временем побеседую с дамочкой. Задам ей парочку вопросов. В том числе и насчет бумаг. Не дают мне покоя эти бумаги.
– А покажи-ка эти бумажки! – попросил Мартынок. – Хочется на них взглянуть одним глазом.
– Там, в шкафу, – сказал Мажарин. – Бери и смотри, если хочется.
Мартынок хмыкнул, подошел к стоявшему в углу шкафчику и наугад взял одну из кип, аккуратно извлек ее из непромокаемого мешка, развязал тесемки, поднес к глазам один лист, затем второй, третий, четвертый…
– Я, конечно, человек премного образованный, – иронично произнес он, – но не настолько, чтобы хоть что-нибудь уразуметь из этих каракуль. Мудреные каракули, что и говорить. И каким языком писано, тоже непонятно. Не немецким, это точно. В немецком я худо-бедно разобрался бы. Приходилось мне штудировать всякие немецкие бумаги, когда я геройствовал во фронтовой разведке. Так… Так… А вот этот уже любопытно… Нет, и вправду интересно! Неспроста он здесь, неспроста! Чую, что-то в этом кроется!
– Ты это о чем? – не понял Мажарин.
– О цветочке, – пояснил Семен. – Очень уж он интересный, этот цветочек!..
– Какой еще цветочек? – удивленно спросил Мажарин.
– А вот вы гляньте, – сказал Мартынок одновременно Мажарину и Черных. – Вот он, цветочек. На каждой бумажке. И везде – в левом верхнем углу. Очень даже интересно.
И в самом деле: на всех листах в левом верхнем углу был от руки изображен небольшой цветок. Смершевцы, любопытства ради, перебрали всю кипу, а было в ней ровным счетом сто листов, и на каждом листе, в левом верхнем углу, можно было заметить тот же самый рисунок – цветок. Причем везде цветочек был абсолютно одинаковым – до самого последнего штриха. Мартынок сосчитал лепестки на двадцати цветках кряду – лепестков везде было шестнадцать, и расположены они были в одинаковом порядке.
– Трафарет, – сказал Мажарин. – Это понятно. Непонятно другое – для чего он нужен на каждом листе бумаги? Ведь не красоты же ради! И не для баловства.
Мартынок, ничего не говоря, вскрыл другую кипу. И там на каждом листе также был цветочек с шестнадцатью лепестками – точь-в-точь такой же, как и на других листах.
– Условный знак… – неуверенно произнес Мажарин. – А больше ничего мне в голову и не приходит…
– Погодите-ка! – сказал Мартынок. – Сдается мне, что под каждым цветочком значится еще одна и та же надпись. Да, так и есть. Везде два одинаковых слова… Ба! Да это же – немецкие слова! Точно! Немецкие! А вот сейчас мы их переведем. Ну-ка, ну-ка… Вайсе камилле – вот что здесь написано. Везде, на каждом листе – вайсе камилле. Ну, вайсе, это понятно. Означает – белая. А вот что такое камилле?
Черных на это лишь пожал плечами. А вот Мажарин задумался. Ему казалось, что он когда-то слышал это слово. Раньше, до войны. Точно, слышал. Он даже припомнил, когда и где именно. До войны он служил на пограничной заставе, на польской границе. Там, на польской стороне, в то время были немцы. И у немцев был патефон – большой, громогласный. Он орал почти беспрерывно, и все больше проигрывались немецкие песенки. Развлекались ли немцы или старались таким способом вывести из душевного равновесия