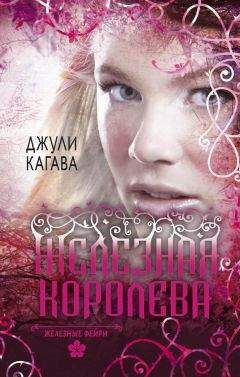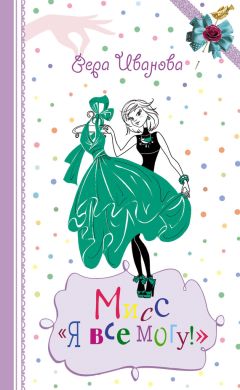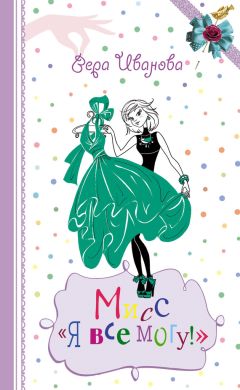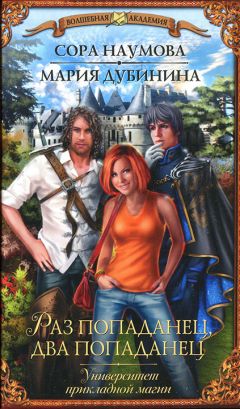Какой-то олух давным-давно сказал, что движение — жизнь. Он был слегка не прав, этот древний олух. Камень, падающий с крыши на голову случайному прохожему, тоже олицетворяет движение; но камень, падающий с крыши — это не жизнь, это — смерть. Он неживой. И прохожий тоже скоро станет неживой. Движение не жизнь, но когда жизнь в движенье, ощущение жизни многажды усиливается. Во завернул, а?! Но ведь так оно и есть. Когда я двигаюсь — еду, лечу, плыву, — у меня в принципе не может возникнуть ощущение, что я в этой жизни ненужный балласт. Я ведь еду, лечу, плыву, значит, я что-то делаю, правда? Значит, на то есть причины, значит, это кому-то нужно, и я, получается, небесполезен. Такая вот философия, такое вот отношение к дороге.
Но это так, к слову. Осознанно я об этом не думал. Вертел баранку и любовался видом залитого ночными огнями пригородного ночного шоссе, обрамленного пушистыми и почти живыми в бегущем отсвете фар деревьями и многочисленными рекламными плакатами. Некоторые из которых, в пику своему невзрачному дневному виду смотрелись весьма эффектно в контрасте света и тьмы.
А думал я о только что покинутом мною доме. Слегка о генерале. Больше, естественно, о его дочке. Экстравагантная девушка, ничего не скажешь. Наверняка в сложностях взаимоотношений между ней и родителем есть солидная доля ее заслуг. Но в данный период времени мысли мои были заняты все-таки не конфликтом отцы-дети. Меня беспокоил я сам. То, что я не смог перед ней устоять. Хотя всегда считал себя довольно волевым человеком. Впрочем, это лишь мое, сугубо личное, мнение. И потом, она была так молода, так свежа и привлекательна. В ее неопытности было что-то завораживающее. Я уже забыл, как это бывает с начинающими. Но, с другой стороны, и я был уже далеко не тот прыщавый юнец с непропорционально выгнутыми пальцами, и ощущения были совсем не те. Меня слегка мучила моя беспокойная совесть. Но ведь, опять же, шестнадцать — это самый сок. Раньше в этом возрасте замуж отдавали, и какой мужик не мечтает провести ночку, подобную моей нынешней? Если кто скажет обратное, можете смело высасывать ему глаз: он лжет.
Мне понравилось, да. Чего уж там. Тем более что я сам не ожидал такого теплого приема от обитателей этого дома. Дурацкого, между прочим, дома. С дурацкими нравами. Хотя… По собственному опыту я знал, что очень многие зажиточные семьи отличает именно это. Деньги людей портят. Деньги и власть. Есть две профессии на свете, способные в кратчайшие сроки превратить ангела в беса — бухгалтер и милиционер. Первый портится из-за обилия денег, проходящих через его руки, второго портит власть над людьми. Миллионерам в этом смысле еще сложнее — большие деньги подразумевают большую власть, и люди теряют человеческий облик в два раза быстрее. Начинают выдумывать какие-то свои правила игры, заставляя всех, кому посчастливилось попасть на их территорию, неукоснительно подчиняться им. Причем потомство совсем не обязательно подчиняется родительским правилам и частенько выдумывает свои. Получаются конфликты. Что, впрочем, не странно — закон природы. Но, поскольку возможности обоих поколений на порядок превосходят возможности обычного среднестатистического гражданина, эти конфликты выходят весьма жесткими.
На свое счастье, я не был ни миллионером, ни отпрыском миллионера. На какое-то время я попал в их дом и поимел счастье общения с ними. С дочкой понравилось, с папой — нет. И все. Проехали.
Передо мною в ночи лежала дорога. И вела она, следуя показаниям, выбитым из генерала, на Заводскую улицу, к восемнадцатому дому. Куда-то в индустриальную зону. Куда именно, я не знал. Но предполагал.
Собственно говоря, индустриальная зона — самый неблагополучный в экологическом плане район города. Химзавод, фармзавод, металлургический завод, куча других каких-то заводов. Трубы, стабильно коптящие небо даже в нашу упадочно-припадочную эпоху, горы ржавеющего железа, выбросы и отбросы, которые, кажется, никогда и никем не вывозились. В общем, та еще обстановочка. Когда-нибудь, как пророк говорю, там начнут рождаться исключительно трехголовые.
Адвокат мог выбрать себе место для проживания и получше, однозначно. У него, у адвоката, судя по всему, денежки водились. Так что за чем была задержка — не знаю. Может быть, он был скрытым токсикоманом и обожал дышать выхлопами. А может, у него был сдвиг по фазе и неистребимое желание держаться поближе к трудовому народу. Единственное, что я знал наверняка — это то, что Леонид Сергеевич был странным типом с непредсказуемым поведением. От таких чего угодно ждать можно.
В общем, я катил к нему сквозь ночь, вооруженный до зубов — «Смит и Вессон», ПМ, «Браунинг». Катил, чтобы вызволить его из неприятности, в которую он влип не по моей вине, но не без моего участия. Если он заперт — отпереть, если связан — развязать, если под охраной — уворовать его у охраны. Моя бы воля, я бы плюнул на Леонида Сергеевича и отправился спать, тем более что глаза слипались. Дело не в алкоголе, принятом в приятной Аннушкиной компании — тот практически успел выветриться. Просто время было такое, когда все порядочные люди мирно смотрят цветные сны, ни о чем больше не мечтая. Но мне пообещали за освобождение адвоката деньги — притом немалые, — так что это была на данный момент моя работа, и я, как человек аккуратный, собирался выполнить ее, чтобы комар носа не подточил. За такую сумму можно и постараться.
Дом номер восемнадцать оказалось довольно сложно найти. В общем ряду строений, составлявших улицу Заводскую, его не было. Меня это удивило, но не сильно. Будучи таксистом до мозга костей, хоть и с приставкой «экс-», я прекрасно знал, что у наших градостроителей имеет место оригинальное чувство юмора. Заныкают где-нибудь пятиэтажку, пронумеруют ее и присвоят название улицы, до которой от этого дома километр с хорошим гаком, и то если огородами, напрямую. А потом гнусно хихикают, наблюдая, как честные граждане ломают головы и ноги в поисках потерянного строения.
Приняв во внимание такую особенность российского архитектурного менталитета, я, по принципу великого собаковода и ловца китайских шабашников Никиты Карацупы, начал нарезать круги, постепенно их увеличивая, и вычислил-таки нужный дом. А, вычислив, понял, почему адвокат Пипуса не захотел менять его ни на какое другое местожительство. Больше того, я понял, что, сделай он это, я первый обозвал бы его идиотом.
Дом номер восемнадцать, вопреки всем моим прогнозам, совершенно выпадал из индустриальной зоны. Во-первых, потому, что отстоял от ближайшего завода на полкилометра, что для данного района совершенно нетипично, а во-вторых, потому, что был защищен оградой из рощи высоченных деревьев. Я таких давно уже не видел. Лет по триста на каждое. Вероятно, остатки леса, вырубленного еще при основании города. Однако остатки выглядели весьма внушительно, и в качестве зеленых легких, думается, функционировали неплохо.
Я вылез из машины и подошел к подъезду. И сплюнул с досады. Эта воздушная сука с генеральскими погонами все-таки подложила мне изящную свинью. Соврал он или нет, не знаю, проверить еще не успел, но в том, что не сказал всего, уже убедился.
Дверь в подъезд была заперта. Рядом с ручкой топорщилась коробочка с множеством кнопочек, на которых, специально для любителей математики, были нарисованы циферки. Моя беда заключалась в том, что, зная все цифры, я не знал кода. А тыкать подряд в каждую в надежде наткнуться на нужный вариант — так лучше сразу вытащить пистолет и расстрелять замок. Вернее будет. Да и быстрее. Сколькизначный здесь код? Двух? Трех? Восьми? Этак я здесь рисковал зависнуть аккурат до белых мух.
Конечно, будь я взломщик, проблем бы не возникло. Я давно знаю истину, что замки помогают только от хороших и честных людей, и готов подписаться под ней обеими руками. Но тот факт, что я хороший и честный человек меня, почему-то, не радовал. В данный момент я предпочел бы быть злым и паскудным негодяем, но попасть внутрь.
Однако мечтать я мог сколько угодно и о чем угодно, но подлецом, исходя из того, что продолжал стоять на крыльце, все равно не становился. И не имел ни малейшего понятия, как им стать, чтобы — р-раз! — и не отходя от кассы. Пускать в ход пистолет с целью перебудить весь дом не хотелось. В конце концов, у людей самый сон, и, если кто-нибудь высунется из окна и обматерит меня разными ласковыми словами или, еще лучше, сбросит что-нибудь тяжелое на голову, винить будет некого. Кроме самого себя, любимого.
Я стоял и думал, что делать дальше. Одновременно надеялся, что кто-нибудь выйдет или войдет. Однако зря надеялся — время с четырех до пяти совсем не то, чтобы люди шарахались туда-сюда, словно конопляные муравьи.
И не сказать, чтобы ночь была чересчур холодной или я совсем незакаленный. Но у меня поверх волосатой груди была только хлопчато-нейлоновая рубашка да чувство гордости от осознания того, что я — человек. И все. Рубашка не грела и с трудом сохраняла остатки тепла от моего тела. Чувство гордости не делало даже этого. В результате меня стала бить крупная дрожь, а в голову полезли разные мысли.