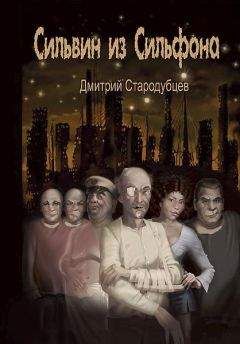Сильвин вытер о пижамные штаны мокрые ладони и гуттаперчиво взглянул на Германа. Тот погрозил кулаком: смотри дальше, тля, не отвлекайся.
Запись прервалась, но через секунду возобновилась. Теперь перед глазами мельтешил настоящий обезьянник: кругом одни мужики, голые и пьяные. Они, приторно скалясь, обступили бильярдный стол. На зеленом сукне туго распято смоченными и скрученными простынями маленькое бронзовое тельце с заклеенным ртом (Мармеладка!), несколько мужчин вальяжно играют в бильярд, как бы невзначай то и дело попадая в девушку — в голову, в тело, а потом уже специально стараются бить точнее и причинить как можно больше боли. Затем те же мужчины забористо хлещут азиатку поясными ремнями, а остальные громкими возгласами подбадривают истязателей. После каждого удара на теле Мармеладки вспыхивает бордовая полоска, она мычит, извивается, тщетно пытаясь прикрыться; удары приходятся по лицу, по плечам, по груди, по животу, по внутренним поверхностям бедер. Все лицо девушки залито слезами, глаза шальные, из разбитой головы и поврежденного носа течет кровь.
Сильвин попытался встать, но Герман был уже рядом — положил пудовую длань на его плечо: Досмотри!
На Мармеладку вскарабкался первый — классический коротышка, сразу же забился в конвульсии и с довольной миной отшвартовался, уступил место следующему насильнику — мухомору в массивных наколках. За вторым последовал третий, за ним четвертый… Оператор сначала снимал всю сцену целиком, включая заведенных на всю пружину болельщиков, но потом стал выхватывать крупные планы, акцентируя внимание на страданиях жертвы, а еще успевал хрипловатым голосом Германа ехидно комментировать происходящее и властно указывать, кому и что делать.
Глаза Мармеладки потускнели, стали безразличными. Она перестала сопротивляться, и теперь трудно было понять, в сознании она или нет.
Сильвин вывернулся из-под руки Германа, вскочил и с диким криком вцепился ему в лицо.
Сильвин. Изверги, троглодиты!
Герман. На кого руку поднял, гугенот паршивый? Получи!
Сильвин очнулся на полу, на затылке вздувалась шишка — очевидно, он ударился о ножку дивана. Герман с исцарапанным лицом немного попинал его остроносым ботинком в бок и в живот — Сильвин, каждый раз подлетая, комедийно икал.
Сильвин. Лучше убей меня, но оставь ее в покое!
Герман. Давай наоборот. Я принесу тебе ее голову, а ты прицепишь к ней бирку и сохранишь на память в своем музее. Идет? Правда, что-то мне подсказывает: в отличие от живой Мармеладки запах мертвой тебе вряд ли придется по вкусу. Ох-ссы-ха-ха!
Видеозапись между тем продолжалась: Мармеладку уже отвязали от бильярдного стола, но ее положение от этого не улучшилось: ее втащили в дощатую сауну — оператор обратил внимание на термометр, показывающий предельную температуру, — и там подвергли еще более изощренным пыткам. В нее вгрызались сразу по несколько человек — размашисто, инстинктом, — сменяясь без передышки, сочно колотили кулаками, вбулькивали ей в рот виски из бутылки, мочились на нее, глумились над ней по-всякому. Оператор, он же Герман, продолжал педантично снимать этот зловещий кордебалет, не забывая беззаботно комментировать: Типичная история рядовой проститутки нашего города… Девочке начинает нравиться… Пособие для начинающей мазохистки… — а потом не выдержал и присоединился, поручив съемку другому, и на фоне его бойкой джигитовки и несусветных причуд прочие мучители представились жалкими первокурсниками.
Сильвин, беззвучно рыдая — его слезы почему-то были с кровью, — выдержал еще двадцать минут этого жестокого сумбурного фильма. В конце концов обесчещенную Мармеладку сбросили в бассейн — охладиться после парилки, а чуть позже ей, едва очухавшейся, уже выламывали руки на кафеле предбанника и она, стоя на коленях, мокрая и растерзанная, полубессознательно лепетала в объектив заплетающимся языком: Они убьют меня! Они не остановятся ни перед чем! Спаси меня, милый! Только ты это можешь! Согласись на условия Германа, и я сразу вернусь к тебе — навсегда! Я твоя Любовница, а ты мой Любовник…
Запись закончилась.
Герман. Только ты виноват в том, что произошло. И больше никто. Понимаешь?
Сильвин. Понимаю. Я согласен на все.
Герман. Вот это другое дело, камрад.
Мармеладка возникла три дня спустя, но это была уже совсем другая девушка. Та, прежняя вздорная нимфетка, была заряженной частицей, пропущенной через синхрофазотрон: воспринимала жизнь с таким азартом, словно все время неслась на сноуборде по веселой синусоиде, визжа на крутых спусках. В сущности, она была еще ребенком, несмотря на то, что уже имела собственного ребенка. Она еще не вернулась из сказочного путешествия по стране Оз (к слову, и Сильвин-душка был для нее пусть неказистым, но всего лишь добрым сказочным героем — каким-нибудь Железным Дровосеком или Страшилой). Она жила залпом, она порхала по жизни, потягивая из сдвоенной трубочки пино-коладу, пританцовывая, напевая песенки и дурачась. Она была олицетворением оптимизма, несмотря ни на что. И губы у нее всегда пылали в предчувствии поцелуя, пусть и поцелуя мерзавца. И слов у нее всегда было в тридцать три раза больше, чем мыслей, что хотя и свойственно женщинам, но не в таком аномальном соотношении.
А эта, новая Мармеладка, хотя и являлась носителем прежнего запаха, все время молчала, будто заразилась молчанием от Сильвина, — молча вошла, буркнув плоское приветствие, молча вернула свои вещи в шкаф, молча пролистала пухлый женский журнал, три раза заинтересованно приподняв гибкую азиатскую бровь — и только спросила перед сном: Ты видел ту запись.? Сильвин, замешкавшись, ответил утвердительно, потом попытался приласкать Мармеладку, лизнув ее в затылок, но она сослалась на нездоровье и просто уснула, отгородившись подвернутым под тело одеялом.
В ту ночь Сильвин не спал, сдавленно дышал над головой Мармеладки до самого утра, втягивал носом ее аромат, смакуя легко различимые его нюансы, разглядывал сине-зеленые кровоподтеки на ее лице, и только один раз воровато ткнул в ее висок возбужденные губы, решившись на это после длительной внутренней борьбы, сжигаемый острой, почти параноидальной страстью. Утром, открыв глаза, первое, что Мармеладка увидела, — виляющего хвостиком песика Сильвина у кровати с ее халатиком в пасти. Она приняла халатик и первый раз улыбнулась. Песик запрыгал, завизжал от счастья.
При помощи Сильвина Герман произвел инвентаризацию своих врагов и их последующую качественную депиляцию. Недругов оказалось неимоверно много, их козни были омерзительны, но бывший боевой офицер, поигрывая желваками, в считанные дни провел санобработку города: все мелкие грызуны были повыведены или, на худой конец, затаились в норках, а многие из них, не желая попасть в расставленные мышеловки, сами перебежали, шустря лапками, в стан Германа. Только со столичными он не мог ничего поделать (за ними стояли могущественные столичные заправилы и им втайне покровительствовали деклассированные власти Силь-фона), но и столичные, в свою очередь, ничего не могли поделать с сапогами, как они называли отставника Германа и дружную стену его товарищей. В итоге две эти группировки фактически разделили, разорвали прежде дрейфовавший между различными экономическими и криминальными течениями город пополам (осталось вбить пограничные столбики на площади Согласия и развесить указатели) и принялись доить Сильфон с удвоенной силой.
Вскоре Герман добился новых потрясающих результатов и стал одним из самых авторитетных людей города. Проституция, которая теперь была распределена между мелкими сутенерами, выплачивающими оброк, отошла на второй план, он сооружал торговые павильоны, открывал ювелирные магазины и приобретал предприятия, скупал по номинальным ценам земли пригорода, приватизировал грязелечебницы, которыми так славился Сильфон. Он отнял у зазевавшегося предпринимателя доходное казино, занялся двусмысленным модельным бизнесом, где особое внимание уделял девочкам-подросткам; кроме этого, договорившись с миграционными службами, подмял под себя весь рынок нелегальной рабочей силы Сильфона, так что ни одна фабрика не могла запуститься, ни одно строительство не могло начаться без того, чтобы хозяева дела не пришли к Герману на поклон. Он крепко держал штурвал, попыхивая ядреной сигаретой; помимо особой жестокости, его отличала известного происхождения дальнозоркость, еще хороший дриблинг и, главное, отменное пищеварение. Его всеядный желудок вполоборота перемалывал любой жирный кусок, в его толстую кишку вмещалось столько дерьма, сколько не вырабатывали все вместе, даже депутаты городского законодательного собрания.
Однажды Сильвин мылся в ванной, утопая в клубах водяного пара и фыркая гиппопотамом, когда над ним, не прикрытая даже фиговым листком, нависла пунцовая морда чудовища, в котором он с трудом признал главаря коммандос Германа. Сильвину было запрещено запираться в ванной комнате, поэтому Герман, бесстыдно ворвавшись, застал своего соседа за довольно странным занятием: тот играл в бумажный гидросамолет, который на днях вырезал из детского журнала и склеил, — хотя на самом деле не мог не думать о Мармеладке, с которой предстояло провести очередную легкомысленную ночь. Герман андрологом внимательно осмотрел голого Сильвина и кощунственно ухмыльнулся каким-то своим открытиям. На Сильвина накатило чувство клаустрофобии, мышцы лица будто склеились, коленки навязчиво затряслись.