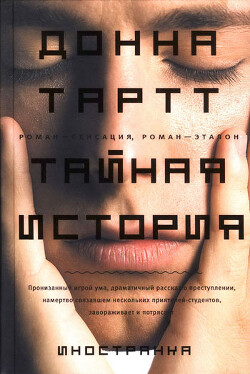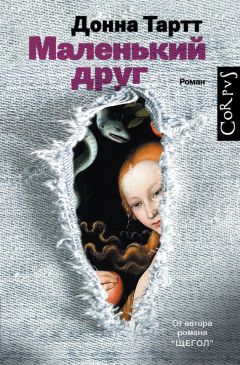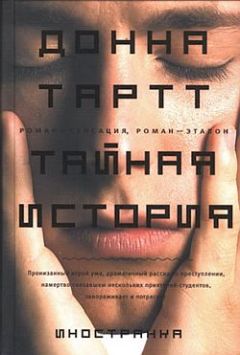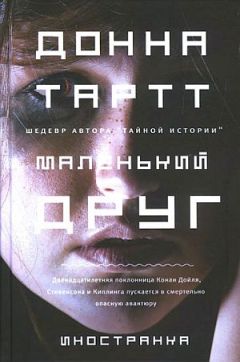Я был очень удивлен тем, с какой легкостью им удалось ввести меня в цикличный, поистине византийский круговорот своего существования. Они так привыкли друг к другу, что, наверное, видели в моем присутствии приятный элемент разнообразия, к тому же их интриговали даже самые заурядные мои привычки: пристрастие к детективам и регулярные походы в кино; то, что я пользовался одноразовыми бритвами и никогда не ходил в парикмахерскую, а стригся сам; даже то, что я читал газеты и время от времени смотрел новости по телевизору. Этот факт казался им верхом чудачества, эксцентричной особенностью, присущей мне одному. Никому из них не было абсолютно никакого дела до того, что происходит в мире; их невежество в области современной жизни и истории последних десятилетий поражало. Однажды за ужином Генри чуть не потерял дар речи, услышав от меня, что люди побывали на Луне.
— Не может быть, — сказал он потрясенно и отложил вилку.
— Правда-правда, — хором поддержали меня остальные, где-то умудрившиеся почерпнуть эту информацию.
— Не верю.
— Я сам видел, — подтвердил Банни. — По телику как-то показывали.
— Но как они туда попали? Когда это вообще произошло?
Когда мы собирались вместе, они все еще подавляли меня своим нерушимым единством, и по-настоящему близко я узнал их только поодиночке. Зная, что я тоже засиживаюсь допоздна, Генри иногда заезжал ко мне ночью по дороге из библиотеки домой. Фрэнсис — жуткий ипохондрик, который просто не мог ходить к врачу один, — часто уговаривал меня составить ему компанию, и, как ни странно, мы подружились именно во время этих поездок к аллергологу в Манчестер, к «ухо-горло-носу» в Кин и так далее. Той осенью ему больше месяца лечили зуб — сперва удаляли нерв, потом пломбировали канал. Каждую среду после полудня, белый как мел, он молча появлялся на пороге моей комнаты, и мы отправлялись в Хэмпден, в бар неподалеку от стоматологии, где сидели до трех часов, когда ему нужно было идти на прием. Я сопровождал его якобы для того, чтобы вести машину на обратном пути, пока он будет приходить в себя после веселящего газа, но, поскольку я дожидался его в баре, к тому моменту, когда он выходил от врача, наши возможности вести машину уже оказывались примерно на одном уровне.
Больше всего мне нравились близнецы. Они обращались со мной так радушно и непринужденно, словно мы были знакомы сто лет. К Камилле я питал особое чувство, но, как бы мне ни было приятно ее общество, я ощущал себя при ней слегка скованно, и дело было вовсе не в недостатке обаяния или сердечности с ее стороны, а в том, что я слишком сильно жаждал произвести на нее впечатление. Я всегда с нетерпением ждал, когда снова ее увижу, и думал о ней беспокойно и часто, и все же куда уютней мне было в компании Чарльза. Импульсивный и добрый, он очень походил на сестру, но был больше подвержен перепадам настроения. Порой он надолго замыкался в себе, однако обычно был весел и разговорчив. В любом случае общаться с ним мне было легко. Одолжив у Генри машину, мы с ним ездили в Мэйн, где он традиционно заказывал клубный сэндвич в своем любимом баре, в Беннингтон, в Манчестер, на собачьи бега в Поуналь. Оттуда он в результате притащил домой старую борзую — она больше не могла участвовать в соревнованиях, и Чарльз спас ее от усыпления. Собаку звали Фрост. Она привязалась к Камилле и ходила за ней по пятам. Генри цитировал по памяти пассаж про Эмму Бовари и ее итальянскую борзую: «Sa pensée, sans but d'abord, vagabondait au hasard, comme sa levrette, qui faisait des cercles dans la campagne…» [37] Но борзая была слабой и очень нервной, и однажды ясным декабрьским утром, когда она с радостным лаем бросилась в погоню за белкой, с ней случился сердечный приступ. В этом не было ничего неожиданного, служитель на треке предупредил Чарльза, что собака, возможно, не протянет и недели, но близнецы все равно ужасно расстроились, и в тот день мы с грустью похоронили ее в саду за домом, где одна из тетушек Фрэнсиса устроила в свое время кошачье кладбище, ныне полное маленьких надгробий.
Собака питала симпатию и к Банни и частенько сопровождала нас с ним во время долгих воскресных прогулок — через ручьи и ограды, по болотам и пастбищам. Банни, страстно любивший ходить пешком, сам напоминал старую гончую. Его прогулки были такими утомительными, что никто, кроме меня и собаки, не соглашался составить ему компанию, но именно благодаря этим походам я хорошо изучил места вокруг Хэмпдена — все эти лесовозные дороги и охотничьи тропы, затерявшиеся водопады и скрытые в глуши озерца.
Марион, подружка Банни, почти не показывалась на нашем горизонте — думаю, отчасти потому, что этого не хотел Банни, но прежде всего потому, что мы, видимо, интересовали ее еще меньше, чем она нас. («Ей больше нравится быть со своими подружками, — хвастался Банни мне и Чарльзу. — Они болтают о тряпках и перемывают косточки парням, всякая такая мура».) Невысокая и круглолицая, эта вздорная блондинка из Коннектикута была вполне симпатичной, если придерживаться тех стандартных представлений о внешности, согласно которым Банни можно было назвать красивым молодым человеком. Ее одежда представляла собой шокирующую смесь гардероба школьницы и матери семейства: юбки в цветочек, свитера с вышитыми инициалами, а также сумочки и туфли, непременно подходившие по цвету к свитерам. По дороге на занятия я иногда замечал ее, каждый раз в новом свитерке, на детской площадке Центра развития малышей. Этот центр был какой-то частью факультета начального образования, и дети из Хэмпден-тауна ходили туда в садик. За ними-то Марион и надзирала, пытаясь яростными звуками свистка заставить детишек закрыть рты и разбиться на пары.
Хотя никто не распространялся об этом, я постепенно понял, что попытки приобщить Марион к развлечениям группы закончились полным провалом. Ей нравился Чарльз, который всегда вел себя очень вежливо и к тому же обладал удивительной способностью поддерживать оживленную беседу с кем угодно, от маленьких детей до официанток, Генри внушал ей, как и большинству знавших его людей, боязливое уважение, но она ненавидела Камиллу, а с Фрэнсисом у нее произошел какой-то катастрофический инцидент — настолько чудовищный, что никто о нем даже не заикался. Отношения, существовавшие между Марион и Банни, мне доводилось наблюдать разве что у супругов, проживших вместе по меньшей мере лет двадцать: отношения, постоянно колебавшиеся между трогательной заботой и мелочной раздражительностью. Марион вела себя очень по-командирски, обращаясь с Банни почти как со своими детсадовцами, да и Банни был похож на избалованного ребенка: то подлизывался к ней, то светился обожанием, то дулся. Ее придирки он, как правило, сносил спокойно, но, когда терпение у него лопалось, происходили жуткие сцены. Растрепанный, с безумными глазами, помятый еще больше обычного, он, бывало, стучался ко мне в комнату поздно вечером, бормоча: «Впусти меня, старина, ты просто обязан мне помочь, Марион вышла на тропу войны…» Через несколько минут раздавался аккуратный и настойчивый стук в дверь. Это была Марион — губы ниточкой, этакая сердитая куколка.
— Банни у тебя? — спрашивала она, встав на цыпочки и силясь заглянуть мне через плечо.
— Нет.
— Правда?
— Марион, его здесь нет.
— Банни! — угрожающе взывала она.
Ответа не было.
— Бан-ни!!!
И тут, повергая меня в страшное смущение, за моей спиной с овцеватым видом появлялся сам Банни:
— Привет, солнышко.
— Ты где был?
Банни только мекал в ответ.
— Думаю, нам нужно поговорить.
— Зайка, я занят.
— Тогда… — она бросала взгляд на свои изящные часики от Картье, — …я иду домой. И через полчаса ложусь спать.
— Вот и славненько.
— Значит, увидимся минут через двадцать.
— Э, погоди-ка, я, кажется, не сказал, что…
— В общем, жду тебя, — говорила Марион и исчезала.
— Я не пойду! — возмущенно орал Банни.
— Я бы на твоем месте ни за что не пошел.