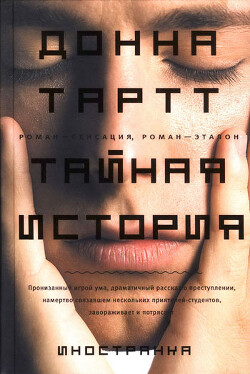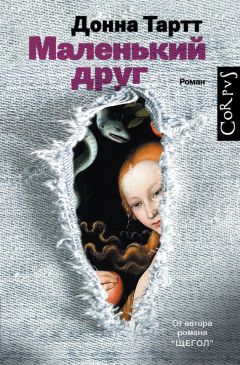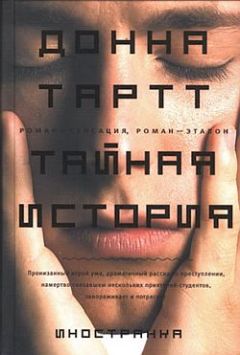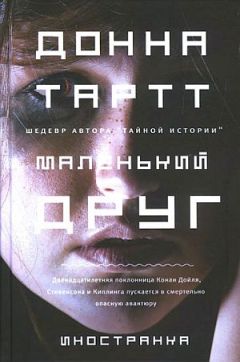— Да что она себе воображает!
— Просто не ходи.
— Нет, я ее проучу! Давно пора было! Я занятой человек. Дел по горло. И я не собираюсь ни перед кем отчитываться!
— Вот именно.
Наступала неловкая тишина. Наконец Банни поднимался со стула:
— Ну ладно, мне пора.
— Ага. Счастливо, Бан.
— Только не воображай, что я иду к Марион, — словно оправдываясь, добавлял он.
— Я и не думал, ну что ты.
— Угу, — рассеянно кивал головой Банни и уносился прочь.
На следующий день они с Марион вместе появлялись в столовой или прогуливались под ручку возле детской площадки.
— Так значит, вы с Марион помирились? — спрашивали мы, как только встречали его одного.
— Вроде того, — сконфуженно признавался Банни.
Уик-энды в доме Фрэнсиса были самым счастливым временем. Той осенью листья пожелтели рано, но погожие дни стояли почти до конца октября, так что большую часть выходных мы проводили на улице. Не считая редких и вялых партий в теннис (отчаянный взмах, звонкий удар с лету — и мяч улетает за ограду корта, а оба игрока принимаются удрученно шарить ракетками в высокой траве), мы не предавались никаким атлетическим забавам — что-то в этом месте вдохновляло на восхитительную, роскошную леность, какой я не наслаждался с детства.
Впрочем, как я сейчас понимаю, мы весь день, хотя и понемногу, что-нибудь пили: струйка алкоголя начиналась с «кровавой Мэри» за завтраком и не иссякала до глубокой ночи. Пожалуй, это и было главной причиной нашего заторможенного состояния. Выбравшись на веранду с книгой, я тут же засыпал в кресле; взяв лодку, я вскоре уставал грести и часами дрейфовал по озеру. (О, эта лодка! Когда меня мучает бессонница, я пытаюсь представить, что лежу в ней, положив голову на стяжку кормы. Вода глухо плещется о деревянные борта, а желтые листья берез медленно кружатся в воздухе и, падая, касаются моего лица.) Периодически мы затевали что-нибудь более экзотическое. Однажды Фрэнсис нашел в ящике ночного столика своей тетушки «беретту» с запасом патронов, и некоторое время мы с небывалым азартом соревновались в стрельбе. (Борзая после всех своих бесчисленных забегов принимала каждый выстрел за сигнал стартового пистолета, и мы заперли ее в подвале.) Мишенями нам служили банки из-под краски. Мы расставляли их в ряд на плетеном чайном столике, который вытащили во двор. Однако это увлечение пришлось прекратить, когда Генри, страдавший сильной близорукостью, нечаянно подстрелил утку. Происшествие сильно его огорчило, и «беретту» убрали с глаз долой.
Кроме меня и Банни, все в нашей компании любили крокет, но мы с ним так и не освоили эту игру и лупили по мячу на манер неопытных гольфистов. Иногда, повинуясь неожиданному приливу бодрости, мы отправлялись на пикник. Поначалу все горели желанием устроить что-нибудь экстраординарное — тщательно составляли меню, выбирали удаленное и неизведанное местечко, — но заканчивалось все одним и тем же: осоловевшие от жары, сонные и изрядно набравшиеся, мы с трудом заставляли себя подняться и плелись домой, волоча сумки с одеялами и посудой. Обычно же мы просто валялись весь день на лужайке перед домом, потягивая мартини из термоса и наблюдая, как блестящая черная ниточка муравьев извивается на тарелке с остатками кекса. Наконец термос пустел, солнце заходило, и мы неохотно брели домой ужинать.
Вечера, когда приглашение на ужин в загородном доме принимал Джулиан, были особыми, торжественными событиями. Фрэнсис заказывал тонну разных продуктов, часами листал поваренные книги и нервничал, раздумывая над тем, что приготовить, какое вино подать, какой сервиз поставить на стол и какое блюдо иметь в запасе на случай, если суфле не поднимется. Смокинги отправлялись в химчистку, из цветочного магазина доставляли букеты, Банни убирал подальше «Невесту Фу Манчу» и расхаживал по дому с томиком Гомера.
Не понимаю, зачем на подготовку тратилось столько сил. К приезду Джулиана мы неизбежно были измотаны и взвинчены до предела. Эти вечера нелегко давались всем участникам, включая, я уверен, и почетного гостя. Впрочем, он вел себя безупречно — элегантен, остроумен, любезен и в восторге от всего — пусть и принимал в среднем лишь одно из трех таких приглашений. У меня плохо получалось скрывать душевное напряжение: мое знание этикета оставляло желать лучшего, смокинг с чужого плеча сковывал движения. Все остальные были гораздо опытнее в подобном притворстве. Бывало, за пять минут до появления Джулиана они, обмякнув, сидели на диванах в гостиной — во взглядах полное изнеможение, пальцы то и дело тянутся к воротничкам, шторы задернуты, в кухне на блюдах с подогревом томится ужин. Однако как только раздавался звонок, спины мгновенно выпрямлялись и в гостиной воцарялась оживленная беседа; даже смокинги, только что казавшиеся измятыми, теперь выглядели безукоризненно.
Тогда эти ужины казались мне мучительным испытанием, но сейчас, в воспоминаниях, они оборачиваются чем-то невыразимо прекрасным: темное сводчатое подземелье столовой, потрескивание поленьев в очаге, призрачная бледность и странное сияние наших лиц. Свет от камина растягивал наши тени, сверкал на столовом серебре, бросал отсветы на высокие стены; огненное отражение горело в окнах, словно снаружи погибал охваченный пожаром город. Пламя гудело и трепетало, так что казалось, будто под потолком, отчаянно пытаясь вырваться на волю, мечется стайка птиц. И я бы, наверное, нисколько не удивился, если бы длинный банкетный стол красного дерева, накрытый белой скатертью, уставленный фарфоровыми блюдами, подсвечниками, вазами с фруктами и цветами, просто растворился в воздухе, как волшебный сундук из сказки.
Мои мысли снова и снова возвращаются к одной картине тех вечеров — она не дает мне покоя, словно навязчивый сюжет, исподволь повторяющийся в каждом сне. Джулиан встает с почетного места во главе стола и поднимает бокал с вином. «Живите вечно», — произносит он.
И все мы встаем следом и, будто отряд кавалеристов, скрещивающих сабли, со звоном сдвигаем бокалы: Генри и Банни, Чарльз и Фрэнсис, Камилла и я. «Живите вечно!» — хором откликаемся мы и единым жестом подносим бокалы к губам.
Всегда, всегда один и тот же тост. Живите вечно.
Сейчас я недоумеваю, как, проводя с ними столько времени, я почти не догадывался о том, что происходило в конце того семестра. Вообще-то в сугубо физическом плане замечать было практически нечего — для этого они были слишком умны, — но я, пораженный своего рода сознательной слепотой, не обращал внимания даже на те мелкие странности, которые все же выходили наружу сквозь созданную ими броню. Иначе говоря, я никак не желал расставаться с иллюзией, что их отношение ко мне абсолютно искреннее, что мы друзья и между нами никаких секретов, хотя безусловная правда заключалась в том, что во многие вещи они не спешили посвящать меня даже спустя долгое время после знакомства. Старательно игнорируя этот факт, в глубине души я все прекрасно понимал. Я знал, например, что мои друзья иногда делали что-то впятером, не приглашая меня (хотя и не знал, что именно), а будучи застигнуты врасплох, лгали дружно и весьма правдоподобно. Настолько убедительно звучали их слова, настолько блестяще освоили они контрапункт и вариации вранья (непогрешимо беспечные рассказы близнецов вели вдохновенную тему на фоне шутовской болтовни Банни или раздраженно-скучающего тона Генри, в который раз воспроизводившего цепочку тривиальных событий), что я обычно верил им, зачастую вопреки неумолимым свидетельствам обмана.
Конечно, сейчас, возвращаясь в прошлое, я вижу признаки происходившего — отдадим им должное, признаки весьма скромные — взять хотя бы их манеру таинственно исчезать на несколько часов, а в ответ на вопрос, где же их носило, напускать тумана; их загадочные шутки, беглые замечания на греческом или, хуже того, на латыни, явно для меня не предназначенные. Естественно, мне это не нравилось, но, с другой стороны, ничего необычного или тревожного здесь не было; только гораздо позже мне открылся жуткий смысл некоторых из тех реплик и шуток. Скажем, к концу семестра Банни приобрел несносную привычку громогласно разражаться песенкой «Фермер из долины». Бесконечное повторение куплетов казалось мне утомительным, но не более, и я только пожимал плечами, видя дикое беспокойство остальных, — теперь-то я понимаю, что от этого детского мотивчика душа у них уходила в пятки.