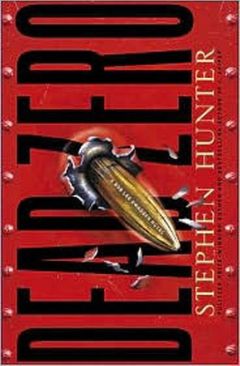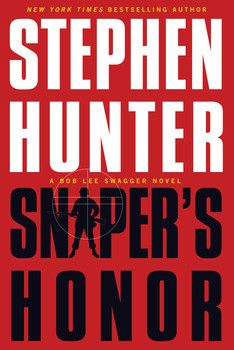– Бедняжка Триг. Возможно, даже у богатых мальчиков есть свои демоны.
– Он изо всех сил обнял меня. Он плакал. Может быть в этом было что-то от извращения. Я чувствовал, как его пальцы стискивали мои мышцы, и чувствовал, что он был счастлив, обнимая меня. Я не знаю. Все это очень непонятно.
Они дошли до автомобиля, Донни включил мотор и зажег фары. Подав задом прямо в траву, он развернулся и поехал по дороге к воротам.
– Господи! – вдруг воскликнул он. – Пригнись!
И в тот же момент из кювета появилась незнакомая фигура. Одетый в костюм человек находился слишком далеко для того, чтобы можно было что-то предпринять. В свете фар мелькнул фотоаппарат. Донни вздрогнул, когда перед ним вспыхнула лампа-вспышка, полностью ослепив его привыкшие к темноте глаза. Перед ним заплясали огненные круги, вызывавшие в памяти ночной обстрел с применением «отеля „Эхо“», он с силой нажал на газ, машина рванулась вперед, выскочила на дорогу, повернула направо, и вот тут-то он по-настоящему разогнался.
– Бог ты мой, они нас сфотографировали, – сказал он. – Шпики. Этот парень наверняка был из ФБР! Святой Христос!
– Я отвернулась, – сообщила Джулия.
– Значит, с тобой все в порядке. Не думаю, что он разглядел номер машины: фонарь номерного знака у меня давно разбит. Ему досталась только моя рожа. Очень она им пригодится! Шпики! Не-ет, все это очень странно.
– Я все думаю, что это может значить? – сказала она.
– А то, что Трига вот-вот арестуют. Трига и этого парня, Фицпатрика. Нам повезло, что мы вовремя убрались оттуда. Я находился в двух шагах от военной тюрьмы.
– Бедняжка Триг, – сказала Джулия.
– Да, – согласился Донни. – Бедняжка Триг.
* * *
Агент выпустил Питера. Тот встал и отряхнулся.
– Я ничего не сделал, – объяснил Питер. – Я приехал навестить моих друзей. Вы не имеете никакого права задерживать меня, понимаете? Я ничего не сделал.
Агент угрюмо взглянул на него и промолчал.
– Я пойду. Это вас совершенно не касается, – сказал Питер.
Он повернулся и пошел прочь. Агент, как ему показалось, был совершенно растерян. Питер шел вперед, ожидая, что его вот-вот окликнут, но оклика не последовало. Он сделал еще шаг и окончательно преисполнился уверенностью, но он не видел и, вероятно, даже не почувствовал мастерски нанесенного удара дзюдо, сломавшего ему позвоночник, и он, в расцвете своей прекрасной юности, преисполненный любви к своему поколению, преданный благородной идее мира, умер, не успев опуститься на землю.
Донни и Джулия въехали в округ Колумбия около четырех часов утра и зарегистрировались в мотеле на Нью-Йорк-авеню, в населенной туристами зоне, окаймляющей центр города. Они были слишком утомлены для секса, любви или хотя бы простых разговоров.
Донни поставил дешевый будильник на 8.00 и крепко спал, пока громкий дребезжащий звон не заставил его раскрыть глаза.
– Донни! – тревожно окликнула его тоже проснувшаяся Джулия.
– Милая, сейчас мне необходимо кое-чем заняться. Ты оставайся здесь, выспись как следует. Я заплатил за две ночи.
Я позвоню тебе, как только смогу, и мы решим, что делать дальше.
– О, Донни.
Она захлопала ресницами, отгоняя сон. Даже спросонья с немного опухшим лицом и волосами, спутанными, как крысиное гнездо, она казалась ему несравненной красавицей. Донни наклонился и поцеловал ее.
– Только не делай чего-нибудь слишком глупого и не старайся проявить благородство, – предупредила Джулия. – Они убьют тебя.
– Обо мне не беспокойся, – уверенно ответил Донни. – Со мной ничего не случится.
Он быстро оделся, сел в машину, проехал полтора километра через район города, именовавшийся Юго-восток, миновал Юнион-стейшн, свернул налево на холм, пересек огромную тень купола Капитолия, повернул на Пенсильвания-авеню и в конце концов оказался на Восьмой улице. Он нашел место для стоянки перед магазинами напротив базы, запер автомобиль и направился прямо к главным воротам.
С противоположной стороны Восьмой улицы маленький форпост морской элегантности казался совершенно безмятежным. Выстроившиеся вдоль улицы дома офицеров выглядели величественными и роскошными. В просветах между ними Донни видел толпившихся на «парадной палубе» людей в форменках; они занимались своей бесконечной строевой подготовкой, стремясь безукоризненно овладеть непостижимыми для всех непосвященных требованиями воинских ритуалов. Оттуда доносилась грубая, точная и требовательная брань младших командиров. Трава, которую пестовали отряжаемые в наряд специально для этой цели молодые люди, была, несмотря на удручающе жаркую весну, темно-зеленой, упругой и чистой, как ни в одном другом месте Вашингтона.
Он вразвалочку перешел улицу и оказался возле ворот, откуда за ним уже давно наблюдал дежуривший по проходной рядовой первого класса.
– Капрал Фенн, на разводе вас объявили в самовольной отлучке, – сообщил он.
– Я знаю. С этим я разберусь.
– Мне приказано доложить о вашем прибытии командиру вашей роты.
– Выполняйте приказание, рядовой. Будете вызывать береговой патруль?
– Насчет этого мне ничего не говорили. Но капитану Догвуду я сейчас позвоню.
– Валяй. А я пойду переоденусь в форму.
– Хорошо, капрал.
Донни миновал главные ворота, пересек вымощенную брусчаткой площадку для стоянки автомобилей и, повернув налево, направился по Солдатской аллее к казармам.
На ходу он обратил внимание на странный феномен: мир вокруг него как будто замер, по крайней мере мир Корпуса морской пехоты. Казалось, что марширующие взводы как один останавливаются и все солдаты провожают его глазами. Он чувствовал устремленные на него сотни взглядов; лающие команды, постоянно заглушающие одна другую, внезапно стихли.
Донни вошел в здание и поднялся по лестнице точно так же, как делал это уже сотни раз. Оказавшись на втором этаже – второй палубе, как было принято говорить, – повернул налево и, миновав кубрик отделения, вошел в свою комнатушку.
Он отпер шкафчик, разделся, обул шлепанцы-вьетнамки, завернулся в полотенце и прошествовал в душ, где как следует обдал себя кипятком и густо намылился дезинфицирующим мылом. Вымывшись, он вытерся, вернулся в свою комнату, натянул свежие трусы и вытащил полуботинки.
Вид у них мог быть и получше. В течение следующих десяти минут он полностью сосредоточился на своей обуви, приводя ее в соответствие с извечной модой Корпуса морской пехоты, и в конце концов она засверкала, как новое зеркало. Как только он покончил с ботинками, в двери возникла идеально прямая, как и подобало кадровому военному, фигура взводного сержанта Кейза.
– Мне Пришлось объявить тебя в самовольной отлучке Фенн, – сообщил он тем особым, присущим только кадровым унтер-офицерам морской пехоты голосом, скрипевшим, словно наждачная бумага на меди. – Может быть, ты хочешь, чтобы я надрал твою молодую задницу пятнадцатой статьей?
– Застрял в городе. Были личные дела. Так что прошу извинить.
– Нарядов у тебя сегодня нет. Сказали, что у тебя ровно в десять важное дело по судебной части.
– Да, сержант. На Военно-морской верфи.
– Ладно, в таком случае я исключу тебя из рапорта. Сегодня ты делаешь то, что нужно, морпех. Ты меня слышишь?
– Да, сержант.
Кейз, удовлетворенный ответом, покинул его.
Хотя ему этого и не приказывали – он даже не знал, какая форма назначена сегодня приказом по базе, – он решил надеть парадную форму «синяя А». Натянул носки, подвязал их на икрах, чтобы они ни при каких обстоятельствах не сползли, снял с вешалки пару темно-синих брюк с красными лампасами и надел их. Зашнуровал свои сияющие полуботинки. Поверх свежей футболки надел идеально выглаженный синий форменный китель с горящими ярким блеском пуговицами и красными выпушками, застегнув его на все пуговицы до стоячего воротничка, украшенного рельефно вытканными золотом орлом, глобусом и якорем, подпоясался белым летним ремнем, туго затянув его, отчего его торс сделался похожим на торс молодого Ахиллеса, прогуливающегося под стенами Трои. Белые летние перчатки и белая летняя фуражка придали его облику полную завершенность.
На груди виднелись ленточки медалей – ничего бросающегося в глаза, потому что морские пехотинцы – суровые воины, не делающие ничего напоказ. Красная полоска напоминала о, пожалуй, самом горячем дне, когда он брел по грудь в густой от буйволиного навоза воде рисовой плантации, выволакивая обратно в мир живых, в мир новых шансов раненого рядового, а чуть ли не полмира одиночными выстрелами и очередями садили по нему пули. Лиловая ленточка[26] говорила о пуле, которая через несколько недель пробила ему грудь. Все остальное было в общем-то чепухой: ленточки медали Национальной обороны, медали за службу в Южном Вьетнаме, ленточка за упоминание в президентском приказе (в приказе было упомянуто все III десантное соединение морской пехоты, действующее в Дурной Земле), вьетнамский «Крест за Храбрость» и знак стрелка-снайпера из винтовки и пистолета с подвесками повторного подтверждения. При взгляде на этот китель ни у кого не могло бы возникнуть ассоциаций с фруктовым салатом, зато каждому стало бы ясно, что перед ним морской пехотинец, участвовавший в настоящих боях и получивший ранение, человек, старавшийся выполнить свой долг.