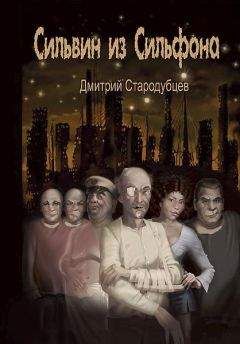Сильвин. С тех пор, как я тебя впервые увидел, истина для меня заключается только в одном: есть только ты!
Мармеладка. Песня Ветра? Знаешь, а ведь я помню ее наизусть. Сколько раз я шептала эти строки, когда мне было особенно тяжело: Я прощаю Тебе Твои грехи, а сам безгрешен. Покорно и счастливо дарю Тебе свою Любовь…
Не в силах сдержаться, они неуклюже поцеловались. В то же мгновение между их губами болезненно щелкнул разряд статического электричества, и оба неприятно вздрогнули. Это уже случалось, поэтому перед поцелуем Мармеладка всегда брала Сильвина за руку — заземлялась. Но сейчас, после долгого перерыва, они обо всем забыли и поплатились.
Сильвин. Почему ты вернулась?
Мармеладка. Ты не рад меня видеть?
Сильвин. Что ты? Конечно, рад! Но вряд ли тебе следовало это делать. Ты добровольно вернулась в ад, из которого тебя никогда не отпустят. Ты станешь вечной рабыней Германа!
Мармеладка. Рабыней? Что ж, я была ею всю жизнь. Каждую минуту своей жизни я кому-то принадлежала. То отцу который растил меня только с одной целью: выгодно продать в Эмираты, в гарем. То покойному мужу который заплатил за меня огромный, с его точки зрения, калым, заставлял работать круглые сутки, а еще подкладывал тем, от кого зависел. То Герману… Я сначала не хотела возвращаться. Но когда вернулась в кишлак… Твой дар еще при тебе? Тогда ты уже, наверное, знаешь про моего ребенка. Там все напоминало о нем. А люди…. Откуда-то они прознали, чем я занималась. Они тыкали в меня пальцем, обзывали грязной шлюхой, плевали мне вслед. Несколько раз меня брали силой…
Сильвин вновь заглянул в скорбно заблестевшие глаза Мармеладки и сразу увидел мерзкую сцену: двое молодых мужчин азиатской внешности волокут Мармеладку в овраг и долго изгаляются над нею. Она не сопротивляется, даже помогает, чтобы избежать лишней боли и повреждений, думает лишь об одном: скорее бы все закончилось.
Лицо одного из джигитов Сильвину показалось знакомым. Боже праведный! Да, ведь это тот самый смуглый парень, который катал Мармеладку в ее далеком молочном детстве на смешном ослике, а потом, лет через семь, пылко тискал в яблоневом саду. Первая любовь, с которой ее когда-то разлучили отвратительные местные обычаи и тупые обстоятельства…
Мармеладка. Все это время я вспоминала о тебе. Жалела тебя и проклинала себя. Кто без меня тебя согреет, утешит, наградит маленькой радостью — возможно, единственной в твоей нелепой жизни. Ведь без меня ты умрешь, думала я, Герман — настоящий иуда, он расправится с тобой из-за того, что я не вернулась. А еще по ночам мне вдруг стало чудиться, что ты разговариваешь со мной. Странно, но это было так явственно, что я несколько раз вставала и включала свет, чтобы убедиться, что нахожусь в комнате одна. В общем, я решила вернуться…
Герман упустил из виду одно бесконечно важное обстоятельство: столичным, которые благодаря предательству Капитана и Любимчика, завладели тетрадью Сильвина, теперь была известна тайна сумасшедшего успеха бывшего лейтенанта-десантника. Может быть из-за пьянства, которому Герман, вроде как завязавший, вдруг стал поклоняться пуще прежнего и в храме которого в компании с соратниками готов был проводить круглые сутки, совершая беспрецедентные молитвенные оргии, или из-за нахлынувшей на него золотым водопадом славы — яда, который он принимал слишком большими дозами, но наш мизантроп окончательно возомнил себя неприступной вершиной Эвереста, стал абсурден в требованиях к окружающим, небрежен в делах и невнимателен, в том числе и к безопасности.
Вскоре на территории особняка появились улыбчивые и энергичные рабочие в форменных комбинезонах водопроводной компании, с ними прибыло множество техники и замысловатых агрегатов. Всего за полдня на месте палисадника, прямо напротив решетчатых окон флигеля, они расчистили плацдарм, расковыряли при помощи экскаватора и лопат глубокий котлован, а затем принялись нашпиговывать его новыми водопроводными трубами. Трудились на загляденье, почти не отдыхали. К ночи все стихло, но, только в жилище Сильвина сквозь оконца настырно втиснулось и бесстыдно ввалилось едкое весеннее солнце, обнажая идиллию двух безмятежных тел, как со двора вновь послышалась веселая перебранка рабочих водопроводной компании, а затем грохот механизмов.
На время работ Сильвину запретили покидать флигель, однако его любопытство, помноженное на полное отсутствие новых впечатлений, было столь велико, что он сумел оторваться от своей молодой наложницы, которая к тому времени и сама была уже изрядно утомлена его необъятным вниманием, и провел целый день у окна, жадно наблюдая за импровизированной строительной площадкой и мурлыча под нос: Милый мой Сильвин, как дорог ты мне!
Сначала ему все было понятно: этих молодцов в зеленых комбинезонах Герман нанял заменить старый водопроводный узел на новый; на поверхности росла гора крошившихся в руках рабочих ветхих останков прежнего водопровода, который, судя повсему, упрятали в землю задолго до рождения Сильвина. Но после новых труб подрядчики взялись запихивать в землю какие-то странные бетонные блоки, много блоков, и Сильвин сгрыз несколькими оставшимися во рту зубами целый карандаш, гадая, для чего они это делают и что все это значит.
Вот бы заглянуть в глаза этому дотошному начальнику водопроводчиков — мистеру Colgate, как прозвал его Сильвин за удивительно белозубую, самую обаятельную в мире улыбку. Сильвин при помощи очков разглядел его лицо с правильными чертами, почти аристократическое, слишком умное и холеное для какого-то прораба, но до глаз мистера Colgate было не дотянуться — мешало мутное стекло окна, да и было слишком далеко, метров двадцать — расстояние явно недостаточное для того, чтобы сквозь зрачки проникнуть человеку в голову и выудить интересующие детали. Несколько раз они пересекались взглядом, представитель водопроводной компании даже один раз подмигнул Сильвину, но однажды посмотрел на него криво, с презрительной металлической усмешкой. Ночью в полузабытьи Сильвину грезился этот в высшей степени неприятный взгляд, и он долго томился недобрым предчувствием.
Через неделю работы закончились: люди в комбинезонах закопали котлован, оставив на поверхности лишь водопроводный люк, слегка пригладили раскуроченный ландшафт парка и отбыли в неизвестном направлении.
Два дня спустя, перед сном, Сильвин совершал недалеко от флигеля дефиле в обществе слегка озябшей и зевающей Мармеладки. Время от времени, по крайней мере, до тех пор, пока окончательно не стемнело, он зачитывал ей любимые кусочки из своего дневника, который прихватил с собой.
Герман со свитой подался в ночной клуб, так что старинный дом спал, ощетинившись пустыми глазницами черных окон.
Вечер был особенно хорош: шумно дышали теплые ветра, навевая чудесные запахи корвалола и смуты, из земли сочилась тягучая похоть. Сильфон, в центре которого они находились, был, казалось, где-то далеко-далеко, а может быть, его вовсе не существовало, был только этот покрытый глазурью блудный вечер, который распирало от пробуждающихся инстинктов. И лейтмотивом в нем служила отнюдь не Теория относительности, о которой Сильвин периодически думал, то соглашаясь с ней, то вдребезги опровергая, а один сопровождающий его ангел, падший, но всё еще прекрасный, кутающийся в длинный шерстяной шарф.
Неожиданно послышалось отдаленное мяуканье. Сильвин остановился, радуясь поводу передохнуть. Сегодня его левая нога ныла всеми суставами, болела каждой косточкой, да еще и плохо сгибалась, будто окончательно устала ходить и мечтала только об одном — развалиться на части, так что он вынужден был целый день ее подволакивать, и это явственно добавило в его облик особую загнанность — качество, несомненно, достойное настоящего странника.
Сильвин поднял с земли понравившуюся ветку и принялся что-то карябать ею на влажной земле. Сначала это были придурковатые геометрические фигуры, потом рожицы, но вскоре появились явственные холмы, уходящие вдаль, и внятные звезды, которые светили над ними. Как интересно! Что это? — престала зевать Мармеладка. Сильвин и сам удивленно разглядывал нечаянно получившийся рисунок. Я и сам не знаю, — пожал он плечами.
Мяуканье повторилось. Вероятно, это был котенок, который попал в беду — уж больно жалостливым был его писк. Мармеладка показала рукой в сторону, откуда, по ее мнению, раздавались звуки, они сделали несколько шагов и вновь прислушались. Мяуканье было приглушенным, с объемным эффектом, словно доносилось из кастрюли; кошачьи звуки от основания до острия были нашпигованы неподдельным ужасом и щедро приправлены острым отчаянием.
В горле Сильвина заклокотало чувство жалости. Мармеладка видела, что он сейчас расплачется, и поспешила успокоить: Не расстраивайся, мы придем ему на помощь! — и вскоре привела его за руку к водопроводному люку, оставшемуся после мистера Colgate и его удалой команды.