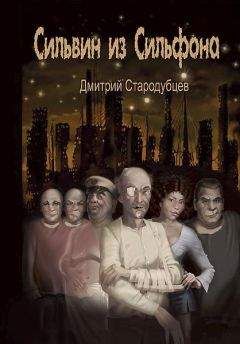Как-то раз он уловил в своих рыданиях некий незатейливый, но интригующий мотив, который почему-то перекликался с мелодией из его простенькой музыкальной шкатулки, где он хранил документы. Он напевал его носом весь следующий день, а потом подобрал к мелодии слез слова, строчки и целые четверостишья, так что получилась песенка — неказистая, но трогательная. Ее он часто мурлыкал под аккомпанемент музыкальной шкатулки.
Песня Сильвина
Милый мой Сильвин, как дорог ты мне!
Один ты такой в огромной стране.
Что мысли печальны? Что слезы во сне?
Что сердце болит? Что грустишь в стороне?
Милый, мой Сильвин, Сильвин, Сильвин!
Милый мой Сильвин, динь, динь, динь, динь!
Кто ты, мой Сильвин? Скажи без обмана!
Волшебник из голубого дурмана?
Монстр, заброшенный ураганом,
Странник, без имени и талисмана?
Милый, мой Сильвин, Сильвин, Сильвин!
Милый мой Сильвин, динь, динь, динь, динь!
Каждый день Сильвина приводили на несколько часов в тот самый кабинет, где на панорамной картине вместо Наполеона посылал в бой Старую Гвардию Герман. Хозяин особняка показывал Сильвину фотографии, зачастую сделанные мобильным телефоном, и видео, иногда снятое скрытой камерой, и заставлял подробно рассказывать о каждом запечатленном человеке. Кроме новых лиц, постоянно появляющихся в поле зрения Германа, он не оставлял вниманием и прежних персонажей: давних криминальных и деловых партнеров, городских чиновников, друзей армейской закваски, которых, к слову сказать, постепенно принижал и отдалял. Впрочем, каждый человек, который по той или иной причине оказывался на территории старого особняка, подвергался самому тщательному анализу и классификации, будь то танцовщицы-стриптизерши и проститутки, обслуживающие очередную сходку-банкет, охранники, которых теперь развелось не менее взвода, многочисленная прислуга, понимающая не больше дюжины слов на языке Сильвина и Германа, и даже бригадир садовников — профессор-ботаник с милой придуринкой, который был без ума от Сильвина, потому что тот часами мог слушать, не перебивая, о декоративных достоинствах сирени и чубушника.
Чем серьезнее Герман богател, тем больше всех и вся опасался. Иной раз хватало ничтожного подозрения, чтобы человек бесследно исчезал. Сильвин, зная это и жалея людей, особенно чистых, невинных, с хрустальными душами, со временем стал скрывать от Германа несущественную информацию, и тем, возможно, спас от преследования не один десяток смертных.
Благодаря Сильвину Герман стал настолько вездесущ, настолько довлел над городом, до такой степени поставил в зависимость от себя и своих устремлений каждого мало-мальски значимого человека, что вскоре в представлении Сильвина весь Сильфон до последнего дачного домика за городом превратился в декоративный аквариум, набитый всякими пресноводными, а Герман — в большого сытого белого человека, владельца и содержателя этого аквариума. Сидя в своем старинном особняке, за высокой охраняемой оградой, маленькой и единственной территорией свободного мира, окруженный со всех сторон городом-аквариумом, Герман кормил или заставлял голодать обитателей застеколья, подавал кислород или перекрывал его, стравливал или рассаживал драчунов по баночкам, казнил и миловал, как ему заблагорассудится. Он был их гуру, пастырем, кормчим, единственным кормильцем. В любую минуту он мог выловить сачком больную или не понравившуюся рыбку и спустить ее в унитаз.
Как ни странно, никто не роптал. К подобному положению вещей все обитатели аквариума; гупяшки, неонки, сомики, горделивые черные барбусы, расфуфыренные золотые рыбки, изнеженные бриллиантовые мэнхаузии и даже испытанные бойцы — рубиновые меченосцы, не говоря уже о пираньях, — быстро привыкли, будто никогда и не знали свободы в сытной теплой заводи. Одни в ожидании пиршества толклись у кормушки, выдирая из боков и хвостов конкурентов целые клоки, и им доставалось почти все. Другие плавали у поверхности, привлекая внимание хозяина пестротой вуалевых хвостов, и на них иногда обращали благосклонное внимание. Третьи, уже ни на что не надеясь, лишь выживали, и их было большинство; сглатывая вместе с дозированным воздухом ненависть и страх, они прятались в водорослях и многочисленных гротах и питались лишь теми размокшими безвкусными объедками, которые, оставаясь после пиршества приближенных, оседали на дно.
Герман, общаясь с Сильвином, по-прежнему прятал глаза за черными очками. Впрочем, однажды ему это надоело: он швырнул очки на пол и раздавил их каблуком. Он рассудил, что Сильвин и так все знает, или догадывается, так что скрывать, собственно, нечего. С тех пор Сильвин знал все и о Германе и об опухоли в его голове.
Теперь Сильвин мог наблюдать, как с каждым новым злодеянием опухоль Германа зримо увеличивалась, поедая еще не пораженные участки мозга, постепенно превращалась в гигантское чрево — источник абсолютного зла. Сильвин с ужасом наблюдал, как эта опухоль пульсирует в голове Германа, словно второе сердце, испускает на десятки метров вокруг трупную вонь и коричневые энергетические круги. Это было презрение ко всему человеческому, разнузданная жестокость, патологическая страсть к наживе, жажда неоспоримой власти. И еще извращенная садистская похоть. Самое великое зло — это господство страсти, когда душа дичает от вожделений.
В отличие от Сильвина, другие люди не видели и не могли видеть того, что происходит в голове Германа, тем более не чувствовали этого гнилостного запаха. Но, находясь поблизости, они на подсознательном уровне улавливали тугую струю, бьющую в глаза, в нос и в грудь, и испытывали безотчетный страх и отчаяние. А иногда их охватывал безраздельный ужас.
Сильвин уже было решился рассказать Герману об опухоли, но потом испугался и малодушно промолчал.
Однажды Герман в очередной раз убил, вернее, поручил наемникам расправиться с инспектором по охране памятников старины, который в поисках правды о сделке с особняком зашел слишком далеко. Инспектора сожгли заживо в мусорном баке, а на следующий день опухоль Германа поглотила остатки разума в его голове, вздулась гигантским яйцом так, что вплотную приблизилась к внутренним стенкам черепной коробки. И в его голове вспыхнул холодный огонь, окатывая все вокруг липкими волнами холодного жара. Этот огонь горел не сам по себе, его подпитывала извне какая-то мистическая сила, с которой он был незримо, но накрепко связан. Сильвин понял: Герман, каким он его знал, навсегда исчез, он стал рабом холодного огня, монстром. Зло окончательно вытеснило Добро.
С тех пор Сильвин перестал смотреть в глаза Герману.
Сроки возвращения Мармеладки давно истекли. Герман по этому поводу, выпучив красные белки, беспрестанно срывался: Я из-под земли ее достану, такую-растакую! — но все понимали, что мятежная Мармеладка не вернется — сбежала и правильно сделала, тем более после того, как ее подвергли изощренным пыткам, — и что какой бы Герман ни был всемогущий, ему не подвластны такие огромные расстояния и, главное, государственные границы.
Время, как бы ни хотелось, не останавливалось ни на секунду, минул месяц. О Мармеладке если кто-то что-то и знал, то лишь разгульный ветер. По ночам он нашептывал в ухо Сильвина: Я Твой Любовник, а Ты моя Любовница… Думаю о Тебе, поскольку прочее — суета сует…, а еще временами доносил едва уловимый мармеладный запах.
Думая о Мармеладке, Сильвин испытывал двойственное чувство. С одной стороны, он мысленно умолял ее остаться на родине, не возвращаться в этот ад, который окончательно раздавит и уничтожит ее, и изо всех сил напрягал мозг, надеясь при помощи телепатии донести до нее сквозь географические широты свои думы. Но, с другой, он так тосковал в одиночестве и долгая разлука так усилила его страсть, что он бредил лишь одной мимолетной встречей, мечтал пережить еще одно, пусть последнее мгновение светлого истинного счастья, и сразу же умереть, тем более, что смерть с некоторых пор его не страшила. И он готов был, не раздумывая, заключить надлежащее соглашение со Старухой, если бы та не была так занята судьбами жителей Сильфона и снизошла бы до подобной скудной сделки.
Итак, великодушный Сильвин разумом не хотел, чтобы Мармеладка объявилась, гуманно понимая, что беспощадный Сильфон ее больше не отпустит — город давно ее дактилоскопировал, она, если хотите, давно уже была его генетической частью. Но гусляр Сильвин, влюбленный до обморока в единственную в своей жизни женщину, пусть и падшую, естественными чувствами жаждал ее возвращения так жарко, дерзко и изощренно, что эти эмоции, в отличие от сознательных желаний, сублимировались в мощные эфирные послания, которым не было преград. И Мармеладка их услышала…