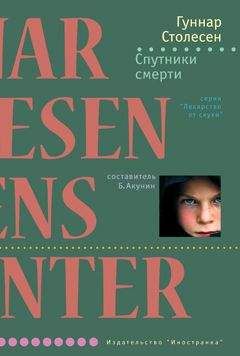— А потом мне стало незачем жить. И я совсем скатилась вниз.
Вдоль рано увядших щек по морщинам побежали слезы, блестящие, одна за другой. Они капали у нее с носа, и она раздраженно смахивала их тыльной стороной ладони.
— Прямо в ад, — закончила она, почти уткнувшись лицом в стол.
У меня было такое ощущение, что я где-то все это уже слышал. И не от нее. Несколько минут мы сидели молча. Я смотрел в окно. За немытыми стеклами день казался блеклым и каким-то молочным. Эти стекла были как граница другого мира, не того, в котором мы сейчас сидели — в тени несчастного прошлого и без особой надежды на будущее.
— Я могла бы жить совсем по-другому, скажу я вам, — прервала она молчание. В ее голосе были настойчивость и упрямство, от которых она не могла отказаться, за которые она цеплялась, чтобы выжить.
— Так скажите…
— Ах, вы еще хотите? Что ж. Я расскажу вам, Веум, как я бы зажила…
Деревянным движением Метте встала, опершись на стол, сделала шаг к двери и исчезла там, где когда-то была гостиная, где семья, жившая тут, торжественно садилась за стол, например, в воскресенье, когда по радио звучала праздничная месса.
Она вернулась с небольшим фотоальбомом в руке. Его красная обложка была порвана, а когда она открыла его, я увидел, что многих фотографий не хватает. Она медленно листала, вглядываясь в каждую фотографию. Я заметил несколько черно-белых снимков из далекого детства и пару цветных — из столь же далекой юности. И вот она достала из пластикового кармашка одну из фотографий и протянула мне через стол. Хотя она страшно изменилась, я смог понять, что женщина на снимке — это Метте. И все же это была совсем другая Метте Ольсен, чем даже та, которую я встретил десять лет назад. Я видел молодую красивую женщину со счастливой улыбкой. На ней была яркая блузка с крупным узором и глубоким вырезом, а голова была в легких светлых кудряшках, украшенных множеством крошечных бантиков — белых и красных. Ей на плечо положил руку мужчина с длинными светлыми волосами и редкой юношеской бородкой, одетый в свободную белую рубашку, расстегнутую у ворота. Эдакий Иисус, который с любовью улыбался ей когда-то в шестидесятые.
— Это снято в Копенгагене, в шестьдесят шестом, — объяснила она.
— А с кем это вы?
— С Давидом.
— Так звали вашего парня?
— Да, — кивнула она.
Я медлил, но понял, что она ждет моего вопроса. И спросил:
— Что тогда произошло?
Она скользнула взглядом вдоль стола, как будто ответ лежал где-то на клеенке. И я еще раз увидел невыразимую боль в ее глазах.
— Он умер, — сказала она почти шепотом.
— Отчего? — спросил я, немного подождав.
Внезапно она подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза:
— Нас предали! Нанесли удар в спину.
Я ждал продолжения.
— Мы… Я встретила его перед этим самым летом, и мы были по уши влюблены друг в друга. Мы были молодые, глупенькие и уже собирались вместе возвращаться домой, в Берген. Найти жилье… Ну и нам предложили заработать — по-легкому. Мы заключили сделку, упаковали вещи и пошли на самолет. Но нас там уже ждали. Кто-то настучал, теперь я в этом уверена. И… — Она потянулась за своей чашкой и сцепила на ней пальцы, как будто это был спасательный круг. — Нас взяли.
Ей пришлось несколько раз сглотнуть, прежде чем она сумела продолжить:
— Давиду пришлось хуже всего. Все было у него в поясе… — Она провела руками вокруг талии. — У меня-то самой ничего не было. Но меня тоже арестовали — как сообщницу. И обыскали, свиньи. Если бы не адвокат, я бы точно попала в тюрьму.
— Адвокат Лангеланд?
— Йенс?
— Да.
Она сердито посмотрела на меня:
— Нет, это был Бакке. Адвокат Бакке. Старик, но Йенс там тоже был, правильно. Но только он был просто помощник адвоката. «Хваткий малыш», — подумала я тогда, как только мы познакомились. Вы же его знаете, да?
Я молча подтвердил наклоном головы.
— Он сказал… Только никому не рассказывайте, ладно?
— Все останется между нами, Метте.
— Он сказал, что мне надо все отрицать. И Бакке так сказал. Вроде как я и не знала, что Давид собирался что-то пронести. Мне надо было просто сказать, что я его встретила в аэропорту Каструп, в Копенгагене, и решила за ним увязаться — тут легавым не к чему было прицепиться. Ну, они это схавали. В суде, по крайней мере. Обратных показаний давать было некому. А Давид меня не выдал, на него можно было положиться.
— И сколько ему дали?
— Восемь лет за решеткой.
— Восемь лет!
— Ну, у нас столько с собой было, что… Но знаете, что было хуже всего? Чувство вины. Меня так и накрыло потом!
— Не без помощи ваших адвокатов, я думаю.
— Да, но все равно… Это же было нечестно. Я предала его, точно так же, как предали нас. А когда он повесился там, в тюрьме, мне как будто нож в грудь воткнули и проворачивали туда-сюда.
— Он повесился?
— Он не мог взаперти! У него была клаустрофобия. Он мне еще в Копенгагене сказал: «Если меня схватят, Метте, я лишу себя жизни. Я ни за что не смогу сидеть взаперти». Так он и сделал. В предвариловке он еще как-то вытерпел, а потом — всё. Как только узнал о приговоре — сунул голову в петлю. Нашли его только утром. Уже мертвого.
Она протянула руку за фотографией. Я отдал ей снимок.
— Так вот и пришел конец той, прежней Метте. И осталась мне одна дорожка — прямиком в преисподнюю.
Она зарыдала. Ее худое тело сотрясалось, она горестно завыла. Я дал ей выплакаться, а когда она немного утихла, осторожно спросил:
— И что, вы даже понятия не имеете, кто вас предал?
— Да какой-нибудь мудак из Копенгагена. Позавидовал, видать, что Давид с Принцессой уезжает. — И прежде чем я успел что-то спросить, она добавила: — Да, меня там все так звали. Принцесса Метте. Или просто — Принцесса…
— Но ведь кто-то потерял чертовски много денег из-за этого дела, а?
— Еще бы! Потеряли, конечно, свиньи такие.
— И что, вы никогда об этом не узнали?
— Да кто бы мне сказал? Я-то тут при чем? — Ее голос задрожал от горечи воспоминаний. — Я же с ним только в аэропорту и встретилась… Так на суде сказала. В Каструпе. Встретила и увязалась…
— Но кто-то же знал, что на самом деле вы были вместе…
— А то! Но у меня-то потом с этим никаких проблем не было. Я только надеюсь…
— На что?
— Что и того схватили, кто на нас стуканул.
— А вы уверены, что это «он»? Ведь если это кто-то, кто вам завидовал, то вполне может быть и женщина?
Она посмотрела на меня пустым взглядом, как будто у нее больше не было сил следить за нитью разговора. Снова настала тишина, словно нам обоим надо было справиться с собственными мыслями, прежде чем продолжить беседу. В конце концов я сказал:
— И у вас родился Ян-малыш…
— Да.
— И все могло бы быть хорошо, Метте.
— Когда родился Ян-малыш, я уже здорово подсела на это дело. Гашиш — это было только начало, потом пошла и кислота, и таблетки. Мне сказали потом, что он, когда родился, был под кайфом.
— И вы все равно его оставили?
— Я сделала все, что они сказали! Легла в больничку, соскочила с наркоты, нашла жилье — там, в Ротхаугене. Они мне уже работу должны были подыскать. Сами говорили: помогут с образованием. Но… Вместо всего этого я встретила Терье. И получила совсем другого рода помощь, если вы меня понимаете. Вот и вернулась прямиком в страну грез.
— Терье Хаммерстена?
— Да.
— Это имя постоянно всплывает при самых разных обстоятельствах.
— Каких? — Она непонимающе уставилась на меня.
— Метте, Терье Хаммерстен рассказал вам, что Ян-малыш переехал сюда. Вы переехали следом. Вы попытались связаться с ним?
— С Яном-малышом?
— Да.
— Нет, я… Я расскажу вам, что я сделала. Да, я нашла, где он живет, там — в долине.
— В Аньедалене.
— Точно. Ну, села я на автобус и поехала. Вышла — иду по улице, заглядываю за заборы. Потому что я же не знала, на каком хуторе он живет. Но тут подъехал школьный автобус, и из него вышли молодые люди. Парень и девушка. Это я так сказала — молодые люди. А они подростки. — Она смотрела прямо перед собой. — Я как раз проходила мимо них. Они с любопытством на меня посмотрели, кого, говорят, тетенька, вы тут ищете. И я ему в глаза посмотрела… прямо в глаза… стою, смотрю и молчу — а сказать ничего не могу! Он же совсем другой человек! Я же его в последний раз видела — ему три года было! А ведь стояла так близко — дотронуться до него могла.
— Почему вы думаете, что это был именно он?
— Да узнала я его. Он на отца похож. — Она шмыгнула носом. — А позже… Я туда много раз приезжала-то. Видела его, конечно, не всегда. Но несколько раз видела. А потом уже узнала, в каком дворе он живет. И видела тех, у кого он жил. Бабу эту и мужика. Крестьяне гребаные!
— Их убили. Обоих.