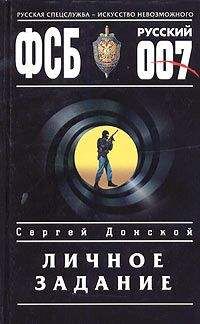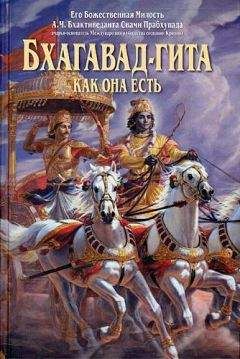Сообщая последние известия, Ксюха бродила по комнате, мимолетно касаясь заинтересовавших ее предметов. Пепельница в виде большеротой рыбины с отбитым хвостом. Старинная настольная лампа с эбонитовым корпусом – такие в сталинскую эпоху украшали столы комитетчиков и требовательно высвечивали перепуганные лица врагов народа. Бронзовый подсвечник с оплывшей свечой. Отковырнув кусочек воска, Ксюха приблизилась к допотопному телевизору с огромным бельмом экрана, за которым в неведомых электронных дебрях, возможно, еще хранились образы давно усопших коммунистических вождей.
– Как в человеческой памяти, – сказала она, щелкнув ногтем по экрану.
Громова поразило, что он сразу понял, о чем идет речь, словно вдруг научился читать мысли этой девушки. И еще он догадался, что теперь ее внимание привлечет древний барометр, навязчиво предвещающий бурю. Так и случилось. Ксюха склонилась над барометром, даже потрясла его немного, словно хотела изменить мрачный прогноз к лучшему.
– Он что, сломан? – спросила она разочарованно.
– Нет, – ответил Громов. – Просто он перенял хозяйский взгляд на окружающую действительность.
– А хозяин мизантроп?
– Убежденный.
– Тогда пусть хозяин послушает... – Ксюха медленно обернулась и продекламировала: – Верь, настанет день ясный, и печаль пройдет вскоре. Станет нам с тобой ясно: горечь – это не горе... Нравится? Это я сама сочинила. Саня меня выругал. Он сказал, что это дамская лирика, сентиментальная чушь. У него совсем другие стихи, мрачные. Чаще всего – про смерть.
– Что он может знать о смерти? – Громов перевернулся на бок и оперся на локоть, чтобы лучше видеть собеседницу. – Пусть лучше пишет о жизни, хотя он и в ней, наверное, ни черта не смыслит.
– Никто не знает, что такое жизнь и что такое смерть, – тихо сказала Ксюха. – Все только делают вид. Но это даже хорошо. Иначе было бы страшно. Или просто скучно.
Выглядела она какой-то грустной и присмиревшей, как заблудившаяся девочка, которая уже не надеется на то, что ее найдут, а потому не тратит время и силы на бесполезные слезы.
– Ты чем-то расстроена? – спросил Громов, не торопясь покидать свое ложе. После непривычно затяжного дневного сна он чувствовал себя опустошенным и разбитым.
– О, поводов для огорчений сколько угодно, – отозвалась Ксюха с напускной беззаботностью. – Но вас это не касается. Вы идите есть. Саня, наверное, уже весь извелся, дожидаясь.
– Ему полезно, – буркнул Громов, дивясь беспричинному раздражению, прорвавшемуся наружу вместе с этой короткой фразой. Он понимал, что ему не подобает вести себя, как какому-то капризному мальчишке, но упрямо продолжал лежать на диване, забросив руки за голову и ожидая неизвестно чего.
– Подъем, лежебока! – Ксюха подошла совсем близко и остановилась над Громовым, строго глядя на него сверху вниз.
Ее одеяние было слишком коротким, ноги – чересчур длинными, а собственные джинсы сделались вдруг такими тесными, что продолжать валяться в них стало просто неприлично. Громов поспешно вскочил с дивана и попытался скрыть смущение неестественным покашливанием.
– Что с вами? – невинно осведомилась Ксюха. – Вас прямо подбросило. Какая муха вас укусила?
Не дождавшись ответа, она тихонько засмеялась, но смех этот был таким же наигранным, как кашель Громова. Их взгляды на мгновение притянулись друг к другу, столкнулись и сразу разлетелись в разные стороны, не желая выдавать своих маленьких тайн.
– Идите, – попросила Ксюха едва слышно и внезапно повысила голос до умоляющего выкрика: – Идите же!
Громов направился было к двери, но вдруг остановился и сказал:
– Ты, девочка, главное – не вешай нос. Сейчас подкрепимся, а потом я доставлю вас к родителям. Не страусы – головы в песок прятать. А к процентщице вместе заглянем. Я постараюсь убедить ее подождать еще пару месяцев.
– Процентщиц можно только топором убедить, – вздохнула Ксюха.
– Есть и другие методы воздействия, – возразил Громов так уверенно, словно ему были известны таковые. – В общем, помогу тебе... вам чем смогу.
– Вы не сможете помочь, но все равно – спасибо, – слабо улыбнулась Ксюха.
– Благодарить рано, но все равно – пожалуйста. – Громов улыбнулся в ответ.
Он шагнул за порог и едва не столкнулся с Саней, который неслышно поднялся по крутой лестнице. Маленький настырный соглядатай, встревоженный затянувшимся отсутствием молодой жены, явился контролировать ситуацию. О его неудовольствии свидетельствовали скрещенные на груди руки и выпяченная вперед бороденка.
– Картошку второй раз разогреваю, – сообщил он обличительным тоном, переводя глаза с Громова на Ксюху и обратно.
Очевидно, он говорил правду. Снизу явственно тянуло горелым.
* * *
Ксюха была рада тому, что осталась одна. Сейчас это было ей необходимо. Она терпеть не могла сумятицы в мыслях и чувствах, всегда стремилась к уединению, когда требовалось прийти в себя.
И еще она устала, очень устала. Ей надоело нянчиться с Саней, надоело утешать и воодушевлять его, опостылело бодриться самой, делая вид, что ничего страшного не произошло, что все образуется и уладится наилучшим образом. Ксюха не рассчитывала, что муж будет носить ее на руках, такую картину даже смешно было представить; но и она не могла вечно нянчиться со своим требовательным сокровищем. Ей все больше не хватало крепкого мужского плеча, на которое можно опереться в трудную минуту.
Плечи мужчины, приютившего их в своем доме, выглядели как раз очень надежными и широкими – за такими хорошо прятаться от любых жизненных невзгод. Но как унизительно искать укрытия за чужой спиной вместе с собственным супругом! Ксюха больше не хотела и не могла видеть этих непохожих мужчин рядом. Боялась сравнивать. А еще боялась долго глядеть в светло-серые глаза Громова, потому что отводить от них взгляд становилось все труднее.
Она провела ладонями по рубашке, ощущая сквозь ткань свою наготу. Рубашка с чужого плеча оберегала ее – такая грубая, такая прочная и такая... нежная. Ксюхе казалось, что она находится в объятиях владельца. Чем все это закончится? Освободится ли она от этого наваждения, когда окажется далеко-далеко отсюда? Наверное. Вот только уходить отсюда никуда не хотелось. И почему-то у Ксюхи возникла уверенность, что она останется здесь навсегда.
Остановившись в задумчивости перед опустевшим диваном, она взяла оставленную Громовым книгу. Интересно, что может читать такой человек? Хм, рассказы и повести какого-то Леонида Андреева, неизвестного ей даже понаслышке. Она пробежала глазами по строчкам, пожала плечами. Хотела было положить книгу на место, но вдруг вспомнила полузабытый способ гадания, никогда не подводивший ее в детстве. Берешь книгу, задаешь волнующий тебя вопрос, наугад открываешь страницу и читаешь первую попавшуюся на глаза фразу. Это и есть ответ, который нужно лишь правильно истолковать. А самый первый вопрос следовало сформулировать таким образом, чтобы книга не вздумала морочить голову всякими враками. Поэтому Ксюха спросила шепотом:
– Обещаешь говорить правду?
Триста двадцать пятая страница с готовностью откликнулась:
«Смотрите: вот в этой тоненькой книжонке, которую я держу двумя пальцами, заключен целый океан человеческой крови».
Не понравилось Ксюхе такое начало. Уже собиралась она отказаться от глупой затеи, но мозг, а может, сердце продиктовало новый вопрос, заставив пальцы опять ворошить страницы:
– Этот человек... Громов. Он мне... он нам действительно может помочь?
«Он совершил дикий, непонятный поступок, погубивший его жизнь... Было ли это безумие, которое овладевает...»
Не дочитав фразу до конца, Ксюха сердито захлопнула книгу. Чушь какая-то! Кровь, безумие... Этот Андреев просто издевался над ней, запугивая маловразумительными угрозами.
– Ты прямо говори! – потребовала она. – Что будет дальше? Вот прямо сегодня! Сейчас!
Очередная печатная строка вытянулась перед ее взором в короткую прямую линию судьбы.
«Приготовленная пуля пробивает приготовленную грудь».
Противная книга полетела через всю комнату, возмущенно трепыхая страницами. Зябко обхватив плечи руками, Ксюха осталась стоять посреди комнаты, с непонятной тоской глядя в окно. Оранжевый диск солнца ускользал с небосклона, но так медленно и плавно, что его невозможно было заподозрить в капитуляции. Неожиданно Ксюхе почудилось, что солнце зависло совсем рядом – стоит лишь протянуть руку, чтобы коснуться его кончиками пальцев. Таким близким и доступным бывало оно только в детстве, когда Ксюха бежала за ним через луг, надеясь увидеть огненный шар прямо над головой.
Она завороженно приблизилась к окну и медленно поднесла к солнцу руку, но, разумеется, ощутила ладонью лишь теплую гладь стекла. От этого слабого прикосновения стекло вдруг жалобно звякнуло, но не разлетелось на осколки, а только покрылось паутиной стремительно разбежавшихся в стороны трещин. Вместо паука в центре зияло аккуратное круглое отверстие.