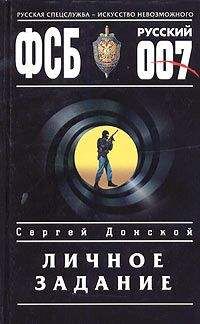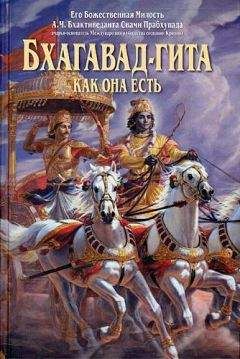Она завороженно приблизилась к окну и медленно поднесла к солнцу руку, но, разумеется, ощутила ладонью лишь теплую гладь стекла. От этого слабого прикосновения стекло вдруг жалобно звякнуло, но не разлетелось на осколки, а только покрылось паутиной стремительно разбежавшихся в стороны трещин. Вместо паука в центре зияло аккуратное круглое отверстие.
Все это Ксюха успела увидеть и изумленно отметить еще до того, как безжалостный удар в грудь отбросил ее от окна, увлек на слабеющих ногах к противоположной стене и швырнул на пол. Некоторое время она сидела, опираясь на руки и недоуменно разглядывая вишнево-красное пятно, расплывающееся на синей материи. Как же ее угораздило раздавить стекло и пораниться осколками? Что за страшная сила отшвырнула ее сюда, продолжая неумолимо давить в грудь, чтобы опрокинуть на пол, смять, утопить в наплывающей багровой мгле?
– Громов! – позвала Ксюха одними губами. – Иди сюда. Ты обещал помочь.
Как же мог услышать он, если она сама себя не слышала? Руки предательски подвернулись в кистях, заставив Ксюху упасть на локти. Она вздохнула, прежде чем опрокинуться на спину, обреченно и покорно. Хотелось спать, закрыть глаза и спать, спать, спать... Лишь одно мешало ей погрузиться в беспамятство: собственные ноги, некрасиво разбросанные на согретом солнцем полу и обнажившиеся гораздо больше, чем это допустил бы Саня. Он как раз что-то кричал снизу – что-то сердитое и осуждающее.
– Сей...час, – беззвучно пообещала Ксюха. Слабо, едва заметно дрогнули ее коленки, лишь этим движением последних сил. Оказалось, что умирать – не только больно и страшно. Это еще и стыдно, бесконечно стыдно перед теми, кому оставляешь на попечение свое бесполезное, уже никому не нужное тело.
И тогда Ксюха еще раз собралась с силами и побежала прочь, по изумрудному лугу своего детства. Она догнала солнце, и оно оказалось прямо над головой – сначала огромное, как небо, потом крошечное, как светлая искорка во всепоглощающем мраке.
* * *
Наверху негромко звякнуло. Затем прозвучало несколько торопливых шажков, завершившихся мягким стуком. Громов озадаченно поднял взгляд к потолку и осведомился:
– Надеюсь, она не посуду там бьет?
– Ксюха! – крикнул Саня, не прекращая жевать. – Кончай буянить! Спускайся вниз, скоро поедем!
Никакого ответа.
– Строгий ты, – сказал Громов с непонятной интонацией. – Все покрикиваешь.
– А как же иначе? – Саня передернул плечами. – Чем меньше женщину мы любим, тем... бу-бу-бу, угум, угум. – Хруст картофельных ломтиков сделал продолжение цитаты совершенно неразборчивым.
– Ах да, забыл. – Громов усмехнулся. – Ты же поэт. Почитаешь что-нибудь свое на прощание?
– Нет. – Саня с усилием проглотил один ком и тут же принялся энергично жевать новый. – Вам поэзия ни к чему. Это вам Ксюха проболталась, что я сочиняю?
Громова отказ немного задел, сделал язвительным.
– Сам догадался, – сказал он. – У тебя выражение лица поэтическое. Сонное, унылое. Вылитый лирик.
Саня покосился на него, посмотрел вверх и опять подал голос:
– Ксюха! Поторапливайся! Оглохла, что ли?
Полная тишина. Выждав несколько секунд, Саня сердито грюкнул отодвинутым табуретом, со звоном швырнул вилку в пустую тарелку и отправился на второй этаж. Громов, неодобрительно покачав головой, отправил в рот порцию горелой картошки и неохотно захрустел ею, дивясь полному отсутствию аппетита. Над его головой раздались Санины шаги, раздраженно отбиваемые босыми пятками, а потом опять стало тихо. Слишком тихо. Громов отхлебнул из чашки полуостывший чай и тоже решительно встал из-за стола. Похоже, эту ребятню было пора брать за шкирку и везти в город силком. Никак не желали они завершать свои затянувшиеся каникулы.
А Громов спешил. Приняв решение возвращаться, он не хотел оставлять себе время на размышления. Тем более теперь, когда рядом появилась девушка, которую ему упорно хотелось называть Ксюшей. Так черт знает до чего можно докатиться.
Поднимаясь по лестнице, Громов прихватил старые спортивные штаны, перепачканные краской, дырявые кеды и неопределенного цвета свитер. Оставалось запихнуть во все это непризнанного гения, подогнать шлепком почитательницу его таланта и уматывать из поселка. «Пока не поздно», – закончил про себя Громов.
Но молодые отнюдь не торопились. Саня стоял на коленях спиной к Громову и обнимал жену, а она, поваленная им на пол, как попало разметала свои длиннющие ноги и окончательно позабыла все приличия.
– Обалдели!? – рявкнул Громов. – Марш вниз! Мы уезжаем!
И тогда Саня обернулся. В его глазах читалось такое неподдельное отчаяние, что все стало ясно еще до того, как прозвучали слова, произнесенные усталым, безжизненным тоном:
– Поздно... Раньше надо было... Теперь все...
А крови вокруг Ксюши оказалось не так уж и много. Ее впитала синяя хлопчатобумажная ткань рубашки, ставшей от этого почти черной. Громов перевел взгляд на пробитое пулей окно. Трещинки весело золотились вокруг поставленной кем-то точки. Была жизнь и – закончилась. Не для всех – для Ксюши. Жила-была красивая девочка, выросла, вышла замуж и погибла. Точка.
– Я же хотел уехать, я просто хотел уехать, – тоскливо прошептал Громов, обращаясь неизвестно к кому.
– Что вы сказали? – очень вежливо переспросил Саня. – Уехать? Куда? Как? Ее же убили, разве вы не понимаете?
Делая подчеркнуто выверенные движения, словно смертельно пьяный человек, изображающий из себя трезвого, Саня осторожно опустил голову жены на пол, оправил на ней рубаху и поднялся на ноги, с явным трудом преодолевая земное притяжение. Потом он молча стоял на месте, безуспешно оттирая ладони от засохшей крови, и смотрел Громову в глаза, как будто ждал каких-то объяснений. Что ему можно было объяснить? Какими словами?
– Вот, набрось. – Громов протянул парнишке принесенные вещи.
Тот послушно натянул штаны, свитер, сунул ноги в стоптанные кеды. Все оказалось чрезмерно большим для его тщедушной фигуры, особенно большой была беда, неожиданно свалившаяся на его плечи. Но Саня старался держаться прямо, поэтому не выглядел ни жалким, ни смешным. Впрочем, теперь было не до смеха. Шутки кончились.
– Ну что, будем милицию вызывать? – угрюмо спросил Громов.
– Зачем милицию? Они же расследовать начнут... – Саня произнес это так зло и язвительно, словно процесс следствия казался ему совершенно неуместным в сложившейся ситуации. Наверное, точно так же прореагировал бы он на предложение пригласить к телу убитой специалистов по массажу. В его глазах милиционеры и массажисты были одинаково бессильны перед смертью, какими бы деятельными и энергичными они ни представлялись со стороны.
Понимая его состояние, Громов все же попытался переубедить парнишку... и себя заодно:
– Да, – сказал он. – Начнется следствие. Иначе нельзя.
– Как раз нужно иначе! Не хочу я никакого следствия! Они все только запутают, перекрутят шиворот-навыворот и на этом успокоятся. А Ксюху полапают и выпотрошат как дохлую курицу! – Саня скрипнул зубами. – Зачем? Все и так ясно. Ее убили. Вы мне честно скажите, не врите... За что? Кто? Вы же не зря велели нам запереться на ключ, так? Вы знали, что здесь опасно.
Громов, в прошлом один из талантливейших вербовщиков «конторы», умевший актерствовать так, что сам Станиславский не отважился бы сказать ему «не верю», неожиданно понял, что не в состоянии лгать. Тщательно подбирая слова, он выдавил из себя:
– Я наверняка ничего не знал. Я предполагал, только предполагал...
Он скупо рассказал про насмерть перепуганную девочку, про ее обезглавленного песика. Говорил, а сам морщился, потому что звучала история наивно и фальшиво, как сказка для маленьких. Даже имена персонажей были словно украдены из книжки про Волшебника Изумрудного Города. Надо же, почти Элли и Тотошка! А волшебник, взявшийся им помочь, был проходимцем и шарлатаном. Громов оказался точно таким же Гудвином, великим и ужасным... ужасным идиотом, вмешавшимся в события, ход которых изменился далеко не в лучшую сторону. Можно сказать: в наихудшую из всех возможных сторон.
Как же так? Он ведь лишь выполнил две заповеди: библейскую и христианскую. Потребовал око за око, зуб за зуб. И поделился с ближним последней рубашкой. Результат налицо: мертвая девушка, лежащая немым укором в его доме. Снова кровь, снова слезы.
Саня, правда, пока не плакал и не требовал ничьей крови. Присев возле Ксюши, он зачем-то попытался нащупать пульс на ее неживом запястье. Прерывисто вздохнул. Бережно вернул руку на место. А сам остался сидеть, весь скрючившись, словно откуда-то дул только им ощутимый ледяной ветер, пронизывающий до глубины души. Не могли согреть парнишку ни громовские шмотки, ни громовские соболезнования. Не поворачивая опущенной головы, он вдруг глухо произнес: