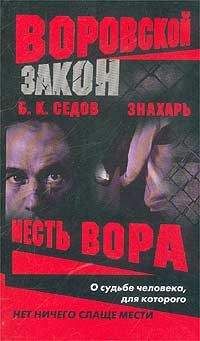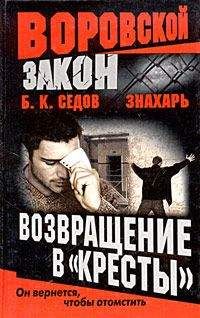– Думай, девка… Думай только о Господе. Молись…
А уже на следующий день Настасья, с трудом перебарывая слабость, отправилась в одно недалекое от сикта местечко, дабы сполнить давесь задуманное. Такое влекущее! Такое желанное!
* * *
…Еще с вечера тайно от братии она сложила на дно небольшого грибного туеса «Октай»[38] и подрушник[39], а с утра, отмолясь и наскоро перекусив ситным и молоком, засобиралась в тайгу.
– Далече ль? – поинтересовался старец Савелий.
– Да здесь, рядышком, батюшко. Поможет Господь, обабков нарву. Иль что еще.
Старик улыбнулся.
– Да отойти уж, поди, обабки. Сходи вон за рыжими[40], коли и их не поморозило. Али праздно в лесу прогуляйся. Бона милостью Божьей ведро на улице. Не грешно и просто пройтись. Токмо поблизости. Слаба ты еще далече ходить. Да возьми вон Заравку, сопроводит тебя от греха.
Поверх сарафана и безрукавы Настасья натянула старенькую малицу, отвязала молодую непоседливую сучку Заравку, положила поклон благословлявшим ее с крыльца старцу Савелию и Игнату и поспешила за околицу.
До ТОЙ березовой рощицы она добиралась, покачиваясь от слабости и еле-еле передвигая ногами, будто дряхлая вековуха. Ночные заморозки и прошедший три недели назад снегопад сбили наземь почти всю листву, и роща уже не казалась такой нарядной и праздничной, как в тот памятный день, когда они гуляли здесь с Костой.
Когда они не только гуляли здесь с Костой!
– Ой, грех-то, грех… – пробормотала Настасья и обвела взглядом окрестности, отыскивая ТО место.
Там?.. Или там?.. Нет, точно вот здесь она поставила в траву корзину с грибами. Которую потом забыли, и пришлось возвращаться назад чуть ли не от самого сикта. И как корзину было тогда не забыть? В то время она была как сумасшедшая! В тот день впервые в жизни она испытала такое!..
– Трех-то! Прости меня, Хосподи!
…Да, корзина стояла именно здесь. А вот здесь, чуть поодаль, стояли они. Вдвоем! Он и она! А потом легли в траву. Вдвоем! Рядом друг с другом. Он и она! Здесь. Именно на этом месте.
ОН и ОНА!
– О Хосподи! – застонала девушка и опустилась на колени. Наклонилась и надолго припала губами к тому месту, где лежал ОН. Всего лишь месяц назад.
Подбежала Заравка, лизнула ее в лицо. Не получив никакого ответа, тоненько тявкнула и легонько куснула хозяйку в плечо: «Мол, ты чего? Давай-ка вставай. Тебе никак плохо? Не могу ли чем-то помочь?»
– Мне и правда плохо, собаченька. Очень плохо! И никто мне не поможет! – Настасья поднялась, нацепила на собаку веревку и привязала ее к березе. Потом стянула с себя малицу и расстелила ее на холодной земле. Достала из туеса «Октай» и подрушник. – Собаченька, ты мне не мешай, ради Господа, – обернулась она к Зараве.
Та поняла и принялась выкусывать блох – всяко от этого больше пользы, чем от непрерывного созерцания хозяйки, которая занимается неизвестно чем.
А девушка тем временем оборотилась лицом к беспрепятственно хозяйничавшему в обнаженной осенью роще солнцу, опустилась на колени на малицу, расстелила перед собой подрушник, раскрыла «Октай».
– Не мешай мне, Заравушка, – еще раз пробормотала она и положила начал[41]…
– Кому повем печаль мою, кого призову ко рыданию?
Токмо Тебе, Владыко мой, известен Тебе плач сердечный мой.
Самому творцу, Создателю, и всех благих подателю.
Кто бы мне дал источник слез, я плакала бы и день и нощь.
Исчезнуша мои слезы о моем разлучении.
Умолкла гортань моя, и несть того, кто в утешил мя.
В одном сарафане и легкой безрукаве ее трясло от пронизавающего осеннего холода, но она не ощущала его. Солнце успело проделать немалый путь и давно перевалило за зенит, но она не замечала этого, машинально поворачиваясь следом за ним. Уставшая сидеть без дела Зарава начала подвывать, но она не слышала воя. Ей сейчас было не до чего. Она была в другом измерении, далеко-далеко отсюда. ОНА была с НИМ, и ничего более ей не надо было…
Кто бы дал мне голубицу, вещающу беседами.
Донесла бы до мира рыдания, сердечную печаль мою,
Возвестила бы Косте, всевозлюбленному моему:
Коста, Костушка, призываю тя, пресладкий любушка мой,
Пролей слезы ко Господу, узнамоша о печали моей,
Востретиша скора, прими мя, вовлеки к себе в ложницу, назовиша своей…[42]
…Из мира иного ее вернула в реальность собака. Перегрызла веревку, подбежала к хозяйке и наскочила на нее так, что та с колен опрокинулась на бок. Огляделась затравленным взглядом, отметила что солнце уже начинает клониться к закату, и запустила руку в густую собачью шерсть.
– И правда, Заравушка, – пробормотала Настасья. – Пора нам до дому. А то наши хватятся, еще по следу пойдут. – И в этот момент ее пробил давно копившийся внутри нее холод. Вся трясясь, она вскочила на ноги и торопливо натянула малицу. Потом, продолжая дрожать от холода, сложила подрушник, сунула его и «Октай» в туес, после чего подозвала собаку и жадно прижалась к ней всем телом, пытаясь согреться. Зарава не понимала, пыталась играться. А Настя в этот момент просто умирала от холода…
Она покинула рощу, когда уже начинало смеркаться. С пустым туесом, в котором лежали только подрушник и «Октай». Но с полной уверенностью, что Коста сегодня слышал ее. Хоть самые дальние отголоски ее молитв. Хотя бы просто подумал о ней. Всего один раз. Один-единственный разик – для начала довольно и этого. Но ведь потом они так будут встречаться еще ни единожды. Она будет приходить сюда и зимой. Хоть в пургу, хоть в лютый мороз. А весной, когда пройдут реки и вновь зазеленеет ИХ роща, он вернется, как обещал. Обязательно вернется. Он не может ее обмануть. Он не такой человек!
– До свидания, Коста. – Настасья обернулась и трижды перекрестила ИХ рощу. – Да поможет Господь, я скоро снова приду. Я буду сюда приходить постоянно. И буду помнить всегда. До свидания, любушка мой… Зарава, не отставай! – И она с трудом пошла в сторону сикта.
Братия, наверное, уже волнуется не на шутку, что ее так долго нет из тайги.
Было совсем темно, когда мужчина лет двадцати пяти – тридцати, обладатель темных длинных волос и пронзительного настороженного взгляда из-под густых, почти сросшихся над переносицей бровей, повернул ключ в замке зажигания и, заглушив движок, расслабленно откинулся на спинку сиденья. Менее чем за семь часов он сумел оставить позади себя шестьсот километров шоссе, под завязку забитого неповоротливыми дальнобойными фурами и тихоходными крестьянскими грузовичками, груженными капустой или навозом. Наконец добрался до места и вот теперь, уткнувшись радиатором в массивные железные ворота, терпеливо дожидался, когда небольшая калитка рядом с воротами распахнется и из нее вразвалочку выплывет здоровенный детина в униформе охранника и с плоской дубинкой-металлоискателем у правого бока.
Мужчина представил, как детина влезет в правую переднюю дверцу, бухнется на пассажирское кресло и первым делом потребует предъявить документы. На то, чтобы тщательно сверить фотографии на паспорте и правах с физиономией водителя, ему потребуется не меньше минуты, после чего он удовлетворенно хрюкнет, вернет ксиву мужчине и, неуклюже выбираясь из салона наружу, небрежно бросит через плечо: «Идите за мной. Я провожу. Ключи зажигания оставьте в замке, мы сами поставим машину». И, не оглядываясь, точно зная, что гость дисциплинированно плетется следом за ним, потопает обратно к калитке, за которой в тесной сторожке их будут поджидать еще как минимум двое крепких парней в пятнистом камуфляже и высоких армейских ботинках. Они безразлично поздороваются с посетителем – если удосужатся поздороваться вообще, – спросят: «Оружие? Диктофон? Микрофоны?», и, получив правдивый ответ: «Нет ничего», примутся тщательно исследовать содержимое карманов гостя и ощупывать складки его одежды. Потом, строго соблюдая инструкции, пошарят сканером и металлоискателем вокруг «подозреваемого». И, конечно же, ничего достойного внимания не обнаружат. Ни «жучков», ни вольты, ни даже какого-нибудь безобидного брелока в виде миниатюрного перочинного ножичка на связке ключей от квартиры. Ничего-ничего. По той простой причине, что ничего подобного у него нет. Надо быть законченным идиотом, чтобы, отправляясь в гости к страдающему манией преследования Хопину, пытаться пронести с собой что-то, что может вызвать у его бдительных церберов малейшее подозрение.
Сегодня днем, когда договаривался с Хопиным о визите к нему домой, он русским языком сказал: «Как подъедешь, вставай напротив ворот и сиди в своей тачке, жди кого-нибудь из охраны». Вот только о том, сколько следует ждать, не было сказано ни единого слова. А ведь действительно, сколько? Пятнадцать минут? Час? До завтрашнего утра? До второго пришествия?»
«… Сразу от этой отравы он не загнется, – еще в Твери объяснял темноволосому мужчине один из местных бандитов, показывая, куда следует нажимать, чтобы циферблат откинулся в сторону. – Сам я этой штуковиной, правда, ни разу не пользовался, но в инструкции как-то читал, что человек, которому она попадает внутрь, лишь часов через шесть начинает ощущать легкое недомогание. Потом появляется тошнота, резь в желудке, слабость, потливость. Потом судороги. Потом паралич. Дальше пациент мечтает уже не о том, чтобы выжить, а о том, чтобы сдохнуть. И поскорее. Не знаю, скоро или не очень, но это ему гарантировано наверняка. Еще не было никого, кто сумел бы сожрать эту гадость и не отправиться к праотцам». – «Шесть часов… Итак, у меня будет полным-полно времени на то, чтобы свалить». – «И не только на это, – заметил тверчанин, осторожно кладя часы-убийцу на стол. – Чем хороша эта отрава, так это тем, что обнаружить ее в крови мертвяка невозможно. Я не спец и не знаю, что в трупешнике происходит, но этот яд то ли распадается на какие-то безобидные составляющие, то ли вообще выводится из организма. Короче, ни у одного трупореза, скольки пядей во лбу он бы ни был и какой бы аппаратурой ни располагал, нет ни единого шанса на то, чтобы что-то понять. В своем заключении он, чтоб не лажаться, объявит причиной смерти что-нибудь вроде обширного инсульта или отравления пищевыми продуктами. А ты в результате будешь чист, как Папа Римский. А если у кого в голове и забрезжат какие-то смутные подозрения, то никаких конкретных предъяв тебе все равно никто подогнать не сумеет». – «Хм, недурственно. – Мужчина взял со стола часы и аккуратно застегнул тонкий кожаный ремешок у себя на запястье. – Мечта террориста или маньяка. Насколько я знаю, подобные штучки держат в неприступных хранилищах за сотней замков, и какой-нибудь Усама бен Ладен готов отдать за них половину своего состояния». Тверчанин еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «Да с какого ты дерева слез? Отстал лет на пятнадцать от жизни! Сейчас такие часы может купить по дешевке любой лох на любой барахолке. И это ничуть не сложнее, чем добыть чек героина. Были в хрусты, и тебе за них найдут хоть обогащенный плутоний…»