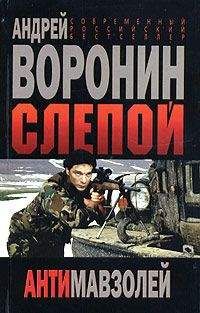– Сигарету! – прохрипел он.
– Не сейчас, – возразил Клыков, – иначе вы не сможете говорить.
– Говорить, да... – В груди у старика клокотало и булькало, он с огромным трудом проталкивал слова сквозь это бульканье, и Клыкову пришлось придвинуться ближе, снова окунувшись в волны его смрадного дыхания, чтобы хоть что-то разобрать. – Говорить... Сначала ты мне скажи, по делу пришел или просто так, посмеяться? Или ты этот... психиатр?
– Я пришел по делу, – твердо сказал Клыков, – и я не психиатр.
– Ну да, – пробулькал старик, – верю... Зачем психиатру ко мне приходить? Какая разница, в своем я уме или нет, если все равно подыхаю – уже, считай, подох. Значит, говоришь, по делу... Знаем мы эти дела. По роже видать, какое у тебя ко мне дело. Отыскали все ж таки... Сколько лет прошло, а все равно отыскали! Одно слово – органы... Ну, да мне теперь все едино. На том свете меня давно заждались, а мне все никак не помирается. Давай, не тяни, кончай, что ли!
– Я не из органов, – сказал Клыков.
– А морда такая откуда? – прохрипел старик. – Глаза, как иголки, а туда же – не из органов...
– Я когда-то служил в армейской разведке, – сообщил Клыков, думая про себя, что сидящий перед ним старик – кто угодно, но только не сумасшедший. – Был на войне.
– А теперь?
– А теперь провожу одно расследование в частном порядке.
– И что же это за расследование такое, что для него понадобился такой старый валенок, как я?
Клыков посмотрел на старика. Старик мог умереть в любую минуту – прямо здесь и сейчас, так и не сказав того, что должен был сказать. Он чудом дожил до сегодняшнего дня, и Клыков чудом на него наткнулся – не нашел, не разыскал и не вычислил, а именно наткнулся благодаря невероятной случайности. В этом пансионате для престарелых умирал еще один старик – умирал не от старости, а от давних ран. Клыков когда-то служил под его началом и раз, иногда два раза в год заезжал проведать своего боевого командира, узнать, не требуется ли ему какая-нибудь помощь. Именно он, грустно посмеиваясь, показал Клыкову старика, который в последнее время окончательно выжил из ума и развлекал соседей дикими бреднями о том, что якобы служил в охране самого Ленина, чего, принимая во внимание его возраст, попросту не могло быть.
Это был подарок судьбы, такой шанс пролить хоть какой-то свет на ту давнюю историю, о каком Клыков не мог и мечтать. В принципе, ему лично эта история была совершенно неинтересна – его от нее мутило, он предпочел бы всего этого попросту не знать, – но из прошлого в настоящее протянулись окровавленные зловонные щупальца, которые подбирались все ближе к Георгию Луарсабовичу Гургенидзе – человеку, которого Клыков должен был охранять по долгу своей нынешней службы и в силу личной привязанности.
Еще раз взвесив все "за" и "против", Клыков решил, что пора открыть карты, не то старик, чего доброго, отдаст концы, так и не успев ничего сказать. А если он начнет распространять полученную от гостя информацию среди других постояльцев этого печального места, его просто никто не станет слушать – решат, что совсем выжил из ума и заговаривается...
Глубоко вдохнув, как перед прыжком в ледяную воду, он решительно погасил сигарету и вкратце описал старику ситуацию. Дослушав до конца, тот довольно долго молчал, свесив голову на грудь и закрыв глаза. Клыков уже решил было, что чертов старец уснул, но тот неожиданно сказал:
– Значит, нашли наш бункер... Сколько веревочке ни виться... Одного не пойму: как это вы все до сих пор живы?
– Уже не все, – сдержанно сказал Клыков.
– Ага, – со странным удовлетворением произнес старик. – А то как же! Ладно, дело прошлое... Я вот сейчас подумал: не для того ли Господь меня тогда, в пятьдесят третьем, от верной смерти уберег, чтобы я сегодня тебе про это дело рассказал?
Клыков бросил на него быстрый удивленный взгляд: старикан, черт бы его побрал, высказывал вслух его собственные мысли.
– Ну, слушай тогда, – проскрипел старик. – Может, это и тебя от смерти убережет. Хорошо бы, кабы так! С меня тогда, глядишь, хоть один грех, да спишется...
Начальник охраны задумчиво кивнул, незаметно опуская руку в карман и на ощупь включая диктофон. Старик начал говорить, не обратив внимания на щелчок кнопки, показавшийся самому Клыкову громким, как выстрел. Он рассказывал долго и мучительно, хрипя, кашляя и поминутно впадая в прострацию, более всего напоминавшую сон, глубокий, как кома. Тогда Клыков осторожно тряс его за плечо, а один раз даже дал затянуться сигаретой, о чем сразу же пожалел – старик едва не развалился на куски от кашля. Во время рассказа Клыкову пришлось дважды перезаряжать диктофон, но с головой погрузившийся в прошлое старик этого так и не заметил. За вычетом кашля, сна и лирических отступлений, каждое второе из которых здорово смахивало на чистосердечное признание в изнасиловании – иногда одиночном, а чаще групповом, – его рассказ сводился к следующему.
В январе одна тысяча девятьсот пятьдесят первого года сержанту Василию Ивантееву было присвоено внеочередное воинское звание – лейтенант. В лагере, где Ивантеев служил заместителем командира взвода в роте охраны, он был на отличном счету и, между прочим, числился в любимчиках у замполита за умение рисовать. Рисовал он, правда, только заголовки стенгазет и боевых листков на фоне развевающихся алых знамен, однако для замполитовых нужд большего и не требовалось. А пока Ивантеев рисовал, разложив свои художественные причиндалы на столе в красном уголке, замполит, душа-человек, как правило, находился рядом: угощал папиросами, рассказывал случаи из жизни, помогал советом, а заодно и расспрашивал о лагерном житье-бытье. Слушателем он оказался отменным, говорить с ним было одно удовольствие, хотя каждый такой разговор как-то незаметно сводился к одному и тому же: что говорят вне службы солдаты и офицеры, кто какие анекдоты рассказывает, кто как относится к заключенным, особенно к тем, которые по пятьдесят восьмой, и правильно ли – с его, сержанта Ивантеева, точки зрения – понимает командный состав линию партии.
Василий, хоть и мальчишка совсем, дураком не был. Вырос он в детдоме и все эти ласковые разговоры с чайком и папиросками враз раскусил. Однако что же он мог поделать? Врать, что, дескать, ничего не видел, не слышал и не знает? Замполиту? Вот это как раз и надо быть последним дураком, чтоб на такое отважиться. Как раз выгонят взашей из красного уголка, и не будет больше ни папиросок, ни чайку горячего под задушевный разговор, пока другие в карауле мерзнут. Да что чаек! Сам не настучишь – на тебя настучат, и тогда небо с овчинку покажется. Из комсомола выкинут – замполит найдет за что, – лычки спорют, и это еще полбеды. Беда, если приклепают статью и вместо формы солдатской выдадут лагерную робу. Вот тогда ты, считай, покойник, потому что зэки вертухаев ненавидят люто, и первой же ночи в лагерном бараке нипочем не пережить.
Да и потом, кто же станет отказываться от удачи, когда она сама в руки плывет? Ведь если прикинуть, что получится? Красный уголок вместо нарядов да караулов – это раз. Чаек, папироски, колбаска да печеньице из офицерского пайка – это два. Водочка под хорошее настроение – три. Задушевные, уважительные беседы с глазу на глаз – четыре. А что за три месяца из младших сержантов в старшие перепрыгнул – это как, не считается? И ни одна сволочь тебе худого слова не скажет – потому, опять же, что дураков в роте охраны нету. Не выживают они в лагере, дураки-то...
Правда, со временем Ивантеев начал замечать косые взгляды и ловить обрывки разговоров, которые неизменно затихали при его появлении. Нехорошие какие-то были разговоры, тайные, темные. Офицеры и те при нем помалкивать старались, чего уж о солдатах говорить! Словом, к концу пятидесятого года в казарму из красного уголка Ивантеев возвращался с большой неохотой – ясно уже было, что добром это не кончится. Или подушкой сонного придушат, или перо под ребро сунут, а то и пальнут, будто невзначай, во время чистки оружия или в карауле – да мало ли способов, когда кругом лес дремучий, Мордовия, Потьма! И не спасет тебя ни замполит, ни начальник лагеря, ни сам Иосиф Виссарионович Сталин...
А тут еще этот приказ: присвоить старшему сержанту Ивантееву внеочередное воинское звание – лейтенант. Не старшина и даже не младший, а сразу лейтенант! И главное, праздника никакого нет и не предвидится – январь, пурга, темень, середина недели... За какие такие заслуги перед Родиной? Да ясно же за какие...
В общем, из строя за новенькими лейтенантскими погонами Ивантеев выходил, будто к стенке, точно зная, что жить ему осталось всего ничего. Вышел на деревянных ногах, приложил деревянную руку к шапке, сказал, что положено, деревянными губами, чуя лопатками сквозь овчинный тулуп ненавидящие, целящиеся взгляды, и совсем было уже собрался обратно, навстречу лютой своей судьбе, как вдруг: стой, лейтенант, не спеши, тут для тебя еще один приказ имеется...