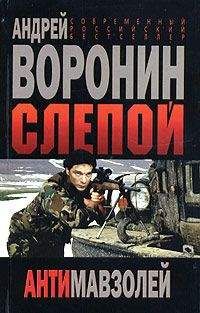Не выдал замполит, дай ему, Господи, доброго здоровья! Приказ-то оказался о переводе, да не куда-нибудь, а в Москву, в столицу! "Учиться поедешь", – сказал ему замполит там же, на плацу, а сам посмотрел как-то странно: не то с завистью, не то с жалостью, а может, и со страхом. И прямо оттуда, с плаца, где утренний развод проходил, едва успев побросать в тощий "сидор" свое немудрящее имущество, отправился лейтенант Ивантеев с попутной полуторкой на станцию – аккурат к московскому поезду поспел, несмотря на метель.
В Москве явился, как было велено, прямо на Лубянку, на третий этаж, постучал в нужную комнату, вошел и доложился по форме: так, мол, и так, лейтенант Ивантеев прибыл для дальнейшего прохождения службы! Сам от уличного гама да грохота вроде как не совсем в себе, но глазами по сторонам постреливать не забывал: эх, и живут же люди! Неужто прямо здесь служить придется?
Но не тут-то было. И двух часов не прошло, как очутился он снова в лесу, в сугробе по самое "не балуйся" и опять же за колючей проволокой в три ряда. Всего и радости, что Москва в полусотне верст да казарма почище, посветлее. Ну, и слава нехорошая далеко за Волгой осталась – это, пожалуй, самое приятное...
Учеба у него странная была. Во-первых, учился Ивантеев не с группой, как привык, а в одиночку. Учили его по очереди два капитана и майор, а чему учили – не поймешь: не то пса сторожевого из него делали, не то официанта для столовой высшего командного состава. А в генеральских столовых подавальщицами все больше бабы, это все знают – из женских рук еда вкуснее, да и генералы – не солдатня какая-нибудь, прямо из-за стола на бабу кидаться не станут, у них этого дела и так сколько хочешь... А с другой стороны, зачем лейтенанту Ивантееву знать, с какой стороны от тарелки надо вилку класть, а с какой – нож? Зачем эти тренировки, когда битый час бегаешь вверх-вниз по крутой лестнице с нагруженным подносом, следя при этом, чтобы ничего не упало, не расплескалось, не звякнуло даже? А потом, не успеешь поднос это чертов на кухню вернуть, перекурить не успеешь даже, дух перевести – вот те здрасьте! – стрельба!
Стрельбой с Ивантеевым занимался капитан Гурин, который сам навскидку, от бедра попадал бегущему зайцу в глаз из пистолета, а подносами, рюмками-бутылками всякими и прочим политесом – майор Кузнецов, больше похожий на переодетого белогвардейца, чем на советского офицера. Второй капитан, по фамилии Сиверс, Ивантеева ничему не учил, а все больше расспрашивал: кто таков, откуда родом, в каком детдоме рос, как туда попал, – словом, выведывал подноготную, и не по-доброму, как замполит в потьменском лагере, а с нехорошим, холодным прищуром, то и дело, будто по забывчивости, возвращаясь к уже сто раз обговоренному. Все было ясно: проверял, пытался подловить, искал расхождения в деталях, но, видно, так и не нашел, иначе как пить дать зарыли бы Ивантеева в лесочке за колючим забором, и дело с концом.
Сиверса этого Ивантеев боялся до судорог, и не только потому, что был тот явным особистом-смершевцем, волчарой ненасытным, отъявленным кровососом. Голова у Сиверса была длинная, как огурец, заметно приплюснутая с боков; злые черные глазки-буравчики близко сидели по бокам здоровенного носа; большие хрящеватые уши торчали в стороны, напоминая растопыренные крылья летучей мыши. Уши у него все время терлись о погоны, потому что Сиверс был горбат. Руки были длинные, ниже колена, и здоровенные, как кувалды, а ноги короткие и кривые, с огромными, размера эдак сорок седьмого, ступнями. И силищи он был необыкновенной: мог пальцами скатать в трубочку монету, а как-то раз, осенью пятьдесят второго, когда Ивантеев давно уже заступал на странные свои дежурства, на глазах у пятерых караульных одним ударом кулака убил наповал человека – парнишку из соседней деревни, которого угораздило собирать грибы возле самого периметра. Когда парня привели в караулку, Ивантеев решил, что сейчас начнется обычная бодяга: протокол, арест, наручники, суд, пятьдесят восьмая статья... А вышло по-другому: выслушав доклад караульного, Сиверс молча подошел к задержанному со спины и ударил – коротко, без замаха, снизу вверх, под левое ухо, потому что был левша, – и задержанный молча, как бык под обухом мясника, рухнул на колени и повалился лицом в кафельные плитки пола... В лесочке его зарыли, прямо за забором, а часового, который, вместо того чтобы стрелять без предупреждения, как было положено, притащил деревенского дурака в караулку, больше никто никогда не видел. И не интересовался им никто, потому что все они там, на объекте, были вроде Ивантеева – без роду, без племени, писем никому не писали и почты никакой не получали, даже газет.
Но все это произошло позже, а пока что Ивантеев стрелял, учился наполнять бокалы, не проливая ни капли на скатерть, и помаленьку привыкал к лестной, но малость, прямо скажем, тревожной мысли, что готовят его для заброски в глубокий тыл противника. Какого противника? А черт его знает, ей-богу! Изучением иностранных языков лейтенанта не напрягали, так что он мало-помалу пришел к выводу, что отправят его в какую-нибудь Аргентину или Мексику выслеживать беглых полицаев и иных пособников немецко-фашистских оккупантов.
И опять он ошибся, потому что никуда его не отправили, а повели, когда настало время, вместе с другими соседями по казарме вокруг пригорка, на котором стоял дом, свели в неприметный овражек и распахнули стальную дверь бункера. Перед этим, ясно, был инструктаж – что делать, чего не делать, по каким телефонам и в каком случае звонить, когда и против кого применять оружие, – но из инструктажа этого, честно говоря, Ивантеев мало что понял. Запомнил-то он все, но вот понять – нет, ни черта не понял. Сторожили они в этом бункере какого-то интеллигентного старикана, и опять же трудно было понять: то ли сторожили, то ли, наоборот, прислуживали ему, как холуи какие. Обед в комнату носили, прибирались по очереди, отвечали на дурацкие его звонки...
Тут вот какая была тонкость: в комнате у старика стояло до черта телефонов, прямо как у командующего фронтом, но дозвониться с любого из них можно было только дежурному, который сидел тут же, за дверью, и был обязан, помимо всего прочего, на эти звонки отвечать. А звонки были еще те: старикан, как видно, малость выжил из ума и решил почему-то, что он большая шишка. То наркома потребует, то главного редактора газеты "Правда" – статью он, видите ли, закончил, – а то и самого товарища Сталина. И дежурный был обязан этак вежливенько ему отвечать: дескать, перезвоните позже, нарком выехал в ЦК, товарищ Сталин проводит срочное совещание, а главный редактор занемог от чрезмерного напряжения, и – спасибо, мы непременно передадим ему ваш привет и пожелание скорейшего выздоровления... Только то и спасало, что старик через пять минут забывал, куда и зачем звонил, и ни разу не удивился: мол, да когда же ваш нарком из ЦК вернется?!
Служба, в общем, была непыльная, но уж очень скучная. За забор ни ногой, сменился с дежурства – и в казарму. С виду-то это не казарма была, а дом – богатый, прямо-таки барский, – а внутри – казарма и казарма, разве что светлая, чистая и койки в один ярус. В свободное время – карты, домино, шашки-шахматы всякие; выпивка не возбранялась, однако до белых лошадей никто не напивался. А что хуже всего – поговорить не с кем, все молчат, как глухонемые, все разговоры – только по делу. И само собой, никаких баб. При таких условиях ничего не радует: ни форма из генеральского сукна, ни сапожки хромовые, с иголочки, ни оклад чуть ли не маршальский, ни хорошая еда, какой сроду в глаза не видывал, ни выпивка – словом, ничего.
Странное, конечно, дело, но Ивантеев долго не мог понять, кого они тут охраняют. Уж очень их подопечный был стар, лет под восемьдесят, наверное, да и бородой оброс прямо как поп или, к примеру, Карл Маркс. А когда понял наконец, то понял и все остальное: и откуда такая секретность, и зачем вся эта чепуха с телефонами, и почему Сиверс того паренька даже не допросил, а просто пристукнул, как таракана... Понял и не удивился: раз партия решила, значит, так надо. Мы ж не эсэсовцы какие-нибудь, а свои, советские внутренние органы, и не отсебятиной занимаемся, а выполняем секретный приказ самого товарища Сталина...
И когда в следующий раз довелось ему войти с подносом в самую дальнюю комнату бункера, уже зная, с кем имеет дело, Ивантеев ничуть не оробел. Ну разве что немножко, потому как почти за год службы успел к старику привыкнуть и чуть ли не подружиться с ним. Нормальный был старик, невредный, смотрел ласково и все писал, писал что-то на листках прямо как заведенный. Принесешь ему чаю с лимоном, он глянет этак по-доброму, скажет: "Спасибо, товарищ" – и дальше пишет. Статью, стало быть, заканчивает для газеты "Правда"...
Сиверс, тот сразу заметил, когда у Ивантеева пелена с глаз упала. Очень лейтенант боялся этого момента, однако страшного ничего не случилось, а даже наоборот: отвел его Сиверс в сторонку и потихоньку от других офицеров дал ему особое поручение – писать Ильичу письма от имени юных пионеров. Почерк у Ивантеева был крупный, детский, да и грамота хромала, так что письма получались просто на загляденье. Сиверс эти письма уносил куда-то, а приносил уже в конвертах с почтовыми штемпелями – из Москвы, из Казани, даже из Владивостока. Как-то раз Ивантееву на глаза попался штемпель с надписью "Петроград". Он сперва глазам своим не поверил, а потом сообразил: как же, старик-то ничего не знает, что на свете делается! Он ведь до сих пор думает, что государством управляет...