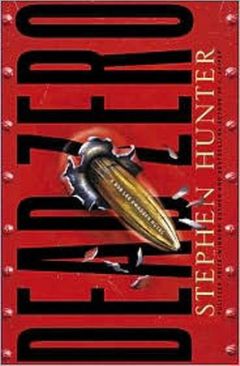— Эй ты, белый парень, не отлынивай, копай, — крикнул ему начальник участка, — а на свои нежные ручки тебе смотреть незачем, потому что теперь они уже совсем не нежные!
— Белый парень, работай, — произнес за спиной у Эрла чей-то голос, — а то тебя изобьют до полусмерти, а заодно и нас, просто так, ради забавы.
Вняв совету, Эрл навалился на лопату и больше за целый день ни разу не остановился и не поднял взгляд; он полностью отдался ритму работы, стараясь начисто выбросить ее из головы, подобно окружающим его собратьям по несчастью.
Эрла поразило лишь одно: ближе к вечеру он поймал вдалеке отблеск лучей заходящего солнца в линзах бинокля. В самом начале войны так выдавали свое местонахождение японцы, и ответом на подобный краткий блик была длинная очередь из станкового пулемета 30-го калибра или минометный залп. Эрл понял: кто-то издалека наблюдает за ним в бинокль, терпеливо и профессионально.
Начальник участка выжал в этот день из заключенных все соки, как, впрочем, и во все остальные дни. С наступлением темноты всех отогнали назад в «обезьяний дом». Но и там их не ждали ни душ, ни уют. Заключенных раздели донага и прогнали под струями воды из шлангов, которые держали белые охранники, — это заменило душ. Затем пришлось надеть ту же самую грязную, пропитанную потом одежду. На ужин дали холодную овсянку, кофе, галету и бобы; все это навалили в оловянные миски на кухне. Заключенные быстро проглотили еду под пристальным надзором вооруженных охранников. Ели руками, усевшись на корточки во дворе, после чего все вернулись на кухню и бросили миски в котел с кипящей водой.
Потом заключенных загнали в «обезьяний дом». Картежники уселись за карты, словоохотливые продолжили бесконечные рассказы о злачных местах, где они когда-то веселились, а помешанные и больные забились в уголки, каждый в свой собственный маленький ад, где бормотали бессвязно себе под нос. Эрл задвинул свою койку в угол и заснул чутким сном.
На следующий день в четыре часа утра все началось снова, все то же самое, и так продолжалось и продолжалось: жар солнечного утра, злорадные издевки обезьяноподобного Окуня, полные ненависти взгляды Полумесяца, песни о Рози и о надежде на избавление. Снова и снова. Опять и опять. И больше ничего, если не считать того, что время от времени Эрл ловил вдалеке отблеск линз. Неизвестный, следивший за ним, поставил это на постоянную, научную основу. А сам Эрл потерял счет времени. Сколько он уже здесь пробыл? Неделю, месяц, год? Каждый день не приносил ничего нового.
Однажды, когда заключенные выбирались из колодца, настолько разбитые усталостью, что у них даже не было сил говорить, кто-то на мгновение прижался к Эрлу. Это был один из картежников, который вроде бы никогда не обращал на Эрла никакого внимания, однако он успел шепнуть Эрлу на ухо зловещее предостережение и тотчас отшатнулся в сторону, прежде чем кто-либо успел это заметить.
— Сегодня тебя будут убивать, белый парень. Полумесяц со своими дружками. Они будут с ножами.
Сэм пристально всмотрелся в фотографию. На ней был снят поразительно красивый мужчина — и, если исходить из того, что красота внешняя влечет за собой более существенные достоинства, человек благородный.
Покойный Дэвид Стоун, доктор медицины, майор медицинской службы армии Соединенных Штатов, смотрел на Сэма из официальной обстановки фотостудии, чуть тронутый сепией, как это было принято в 1943 году, когда была сделана фотография. Он с гордостью носил военную форму, и под змеей, обвивающей жезл, — эмблемой военных медиков, сверкающей в петлицах, тянулся длинный ряд орденских ленточек, которые свидетельствовали о блестящей карьере. У Дэвида Стоуна были жемчужно-белые зубы, он носил тоненькую полоску усиков, а его волосы были аккуратно зализаны назад и набриолинены. В целом он внешне напоминал философствующего принца.
— Он был очень хорошим человеком, — вздохнула вдова Стоун.
Сэм сидел у нее дома в Балтиморе, в квартире на восьмом этаже, выходящей окнами на показную красоту просторной лужайки с прудом, окруженным ухоженными деревьями, которая именовалась парком Друид-Хилл.
Миссис Стоун тоже была очень красивой женщиной. В чертах ее лица было что-то орлиное, а ее глаза, воплощение ночной тьмы, оставались при этом живыми, веселыми и необычайно умными. Эти глаза были созданы для смеха, но только не для похабного, непристойного гогота, а скорее для утонченного веселья ума, эрудиции, меткого словца.
Сэм отчетливо представил покойного доктора Стоуна и его супругу семейной парой: как прекрасно они подходили друг другу, как дополняли друг друга, с его неотразимым благородством и с ее умом и ослепительной красотой. В них было что-то от Новой Англии, что-то такое, что Сэму довелось мельком увидеть во время пребывания в Нью-Джерси и Нью-Хейвене: мир блестящий, но замкнутый в себе, неприступный, проникнуть в который посторонний может, только если он обладает исключительным талантом, добился исключительного успеха или происходит из исключительно благородной семьи, Сэм, лишенный всех этих трех качеств и, больше того, сознающий, что ему недостает чего-то большего — как он догадывался, способности поражать окружающих, — прекрасно понимал, что никогда не будет вращаться в таком обществе. Для него цель жизни состояла в том, чтобы ловить насильников и грабителей в маленьком округе в западном Арканзасе. Ни одна женщина с Восточного побережья этого не поймет, а Сэм, когда дело доходило до объяснения своих устремлений, безнадежно терялся. Одна лишь Конни Лонгакр, из-за своего трагического замужества застрявшая в глуши округа Полк, смогла понять Сэма, да и то после того, как долго и усердно присматривалась к нему.
— Насколько я понял, ваш муж окончил медицинский факультет Гарвардского университета, не так ли? — спросил Сэм.
— О да, причем во втором поколении. Отец Дэвида тоже был врачом. У него была практика в Нью-Йорке, на Парк-авеню. Ему приходилось бывать в свете, отсюда надежды на то, что Дэвид добьется успеха в жизни, особо не попотев. Если так можно выразиться, он сделал моральное капиталовложение. Поэтому Дэвид окончил медицинский колледж в Нью-Хейвене, а затем медицинский факультет в Гарварде, как и его отец. После нескольких лет клинической практики и аспирантуры он перебрался сюда, в Балтимор, и защитил диссертацию по проблемам муниципального здравоохранения в университете Джона Гопкинса.
— Вы должны меня простить, мэм, я всего лишь скромный провинциальный адвокат. Но у меня сложилось впечатление, что с таким послужным списком ваш муж мог бы устроиться, где его душе угодно, и зажить припеваючи. Скажем прямо, стать человеком очень состоятельным, даже богатым. При этом занимаясь медицинской практикой. Однако он предпочел посвятить себя публичному здравоохранению, а это, если я не ошибаюсь, едва ли можно назвать очень прибыльной областью деятельности. И опять же, если я не ошибаюсь, в начале тридцатых годов доктор Стоун провел несколько лет в Африке и Азии.
— Вы совершенно правы, мистер Винсент. Дэвида деньги нисколько не интересовали. Как я уже говорила, у него были очень высокие моральные принципы. В каком-то смысле он был одержим стремлением творить добро, двигать науку вперед на благо всего человечества. Деньги для него ничего не значили. Дэвид вырос в достатке; у него был свой личный доход, хотя и небольшой, так что, возможно, он воспринимал такое положение дел как нечто само собой разумеющееся, и для него не было ничего привлекательного в том, чтобы зарабатывать деньги ради денег. У меня тоже были кое-какие средства, доставшиеся мне в наследство. Мы оба стремились к интересной, полезной жизни, а не к роскошным особнякам. Нас вполне устраивала вот эта самая квартира. Мы никогда не хотели обзавестись обширным поместьем.
Квартира с четырьмя или пятью спальными комнатами находилась, судя по всему, в лучшем жилом здании города, которое представляло собой замок, выходящий на парк с оленями. На взгляд Сэма, это было своеобразное святилище интеллекта, своим зрительным рядом стимулирующее работу воображения и разума: заполненная книгами обитель со скудной обстановкой, зато с медицинской библиотекой, которой, по оценке Сэма, позавидовал бы колледж средней руки. Но на книжных полках также были обширно представлены художественная литература и поэзия; на стенах висели картины современных художников, тут и там взгляд натыкался на скульптуры в стиле модерн, на образцы декоративно-прикладного искусства Африки и Азии и безумную пестроту произведений кустарных ткачей. И вид из окна, как уже успел отметить Сэм, был восхитительным.
— Наверное, вы были так счастливы, — заметил вслух Сэм.
— Да. Но нам приходилось очень нелегко. Дэвид был человеком долга. Он не мог жить без работы. Ему хотелось принести в мир милосердие. Он мечтал о том, чтобы победить все великие тропические болезни: желтую лихорадку, малярию, рахит, все язвенные заболевания и глазную катаракту, следствие недостаточного питания и отсутствия санитарных норм. Дэвид хотел принести в убогую, забытую глушь чистоту и свет, сделать так, чтобы там жили здоровые дети и улыбающиеся матери. Не могу сказать, что я была настроена так же идеалистически, и это нам дорого обошлось. Это стоило нам ребенка, семьи. Потеряв первого ребенка, я лишилась возможности иметь детей. Я говорю вам об этом, хотя вы ни о чем не спрашивали, — и не подумайте, что я готова раскрыться перед первым встречным. Но вы должны понять, как трудно бывает жить со святым.