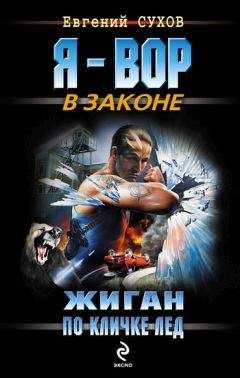– Илюша… – тихо вздохнула Александра.
– Каледин! – выговорил ее муж. – Лейтенант Каледин, не раскисать! Ты же был лучшим разведчиком в моей части. Да что там части – в моей жизни! Так что вот этих арий Монте-Кристо мне тут не надо! Возьми себя в руки. Начни с нуля. Ты – настоящий человек, ты мужик; я же видел, чего ты стоишь на фронте, а там гнилое нутро и слабину сразу обнаруживаешь… Я не знаю, какие у вас в прошлом трения с Семеном Андреевичем, это ваше дело, но ты не имеешь права говорить про себя чушь, что, дескать, ты даром прожил свою жизнь!.. Соберись! Сожми кулаки! Все еще будет! Сколько тебе лет – сорок, ну, сорок два? Мне сорок четыре, и в сорок лет я начал жить заново! И – счастлив…
– Только тебя не держит за горло татуированными блатарскими лапами прошлое, – уже спокойнее выговорил Илья. – Ладно. Ты совершенно прав, подполковник. Я слишком долго боролся со своим прошлым. Пора бы от него избавиться. В конце концов, у меня все-таки есть иллюзия, что я могу начать жизнь с чистого лица. Вот только не в этой стране. Нам нужно уехать отсюда. Всем. Мне, Вишневецкому, Ивану. Деньги не вопрос – все-таки не зря в деле с убийством Льда фигурировал пропавший воровской общак, правда, Семен Андреевич? Только прежде мне придется задним числом оправдать годы, проведенные на зоне.
– Это как же? – спросил Лагин. – Если ты намекаешь на то, что неплохо бы меня располосовать, посадить на перо, расквитаться за события многолетней давности – так это ты напрасно. Неужели будешь делать это на глазах у Альки, на глазах у своего бывшего командира? Представляешь, какие неприятности ждут их, когда на отведенной им жилплощади уголовник-рецидивист завалит высокопоставленного работника Советского правительства? Кстати, внизу меня ждет машина с шофером, который, выждав определенное время, может и поднять тревогу. Это тебе в голову не приходило?
– Есть непреодолимые обстоятельства, – с сарказмом ответил Лед. – Все тобой перечисленное, Семен Андреевич, к таковым не относится.
– Так, – тревожно сказал Санаев, – я не знаю, что ты задумал, Илья, но…
– Спокойно, Васильич! Если ты думаешь, что я хоть одним своим шагом могу подвести тебя под монастырь, значит, я сам виноват, что не убедил в обратном… Я тебе слово даю, что в твоем доме все будет тихо и спокойно.
– И вы, товарищ подполковник, зная о том, что грозит замминистра Госконтроля СССР, будете сидеть в бездействии? – усмехнулся Лагин. – Вы же советский офицер. Должны защищать свою партию и правительство от уголовного элемента.
Санаев молчал. Кривил губы Лед. Лагин перебросил взгляд на Альку и выговорил:
– Может, ты что скажешь? А, Алька? И о жизни Ильи, прожитой не за того, и о Паливцеве, со смерти которого все пошло под откос? А? Пора бы внести ясность.
Александра встала. Она была смертельно бледна. Ноздри вздрагивали. При одном взгляде на нее Лед вдруг застонал и бросился к стене. И принял – словно посланную вдогонку длинную очередь – убийственную последовательность негромких слов:
– Все он правильно говорит. Пора внести ясность. Паливцева убила я. Я сама не поняла, как это вышло. У меня был тот дамский кинжал, который ты мне подарил, я еще смеялась и негодовала одновременно, когда ты мне его притащил… Паливцев был пьяный, полез в коридоре с непристойностями, я его и ударила. Даже не поняла, как вышло… Он сначала, кажется, даже не почувствовал, а когда понял – потащился на свежий воздух… Даже пытался закурить. Там и упал. А у меня… У меня был какой-то ступор. Я пошла в комнату, потом открыла окно, чтобы подышать. Честное слово, я ничего не понимала, так получилось… А потом я увидела тебя, Илья, над Паливцевым, и тут до меня дошло, что я сделала. И – началось… стрельба, драка, крики, твое лицо перекошенное… Я струсила. Я не поверила, что все это наяву.
– Все один к одному, – сказал Лагин. – Все один к одному. Я в тот момент вышел на дорогу, потому что мне упорно казалось, что ты придешь и натворишь глупостей. Хотел перехватить… У меня хорошая интуиция, но все оказалось куда хуже и замысловатее. Я действительно думал, что Паливцева убил ты. Я же говорил тебе тогда, в Ванино, что дополнительные улики вскрылись не сразу; ну, а уж когда я узнал, что это – моя приемная дочь… Уж извини, – развел руками Лагин. – Что, по-прежнему хочешь меня убить?
Илья стоял у стены. Перед глазами плыли, плыли радужные круги, и выдергивались из них, как кадры из кинопленки, сцены из его бестолковой, жестокой, милой, единственной жизни. Вот худой человек входит в школьный класс и говорит, что он учитель истории… Вот драка со скаутами, юношеская веселая злоба, задор и радость победы… Глаза девушки, которой, как оказывается, тоже может оказаться сорок с лишним лет; девушки, которая, как выясняется, перевернула твою жизнь одним беспомощным движением руки, в которую ты сам, Илья, с шиком и рисовкой вложил когда-то тот нелепый и смертоносный подарок… А вот – огни прожекторов, захлебывающийся лай псов, ветер в лицо, крики: «Пшел! Следующий!» Черные нары, тяжелый запах, перебивающий вкус к жизни… Тусклые лица с белыми рыбьими глазами, наколки, оскал… Первые версты побега, свобода совсем ненадолго… Горящий эшелон и зеркало Байкала… Песок, хрустящий на зубах в казахстанской степи, погоня, схватка, солнце, меркнущее в глазах… Волчьи глаза комиссии, призывающей заключенных искупить вину кровью на фронтах… Пропыленные бушлаты, черное небо, распоротое трассирующими снарядами, вой сирен, налет фашистской авиации и ты, лежащий в окопе бок о бок с мертвым мальчишкой-белорусом… Рукопашная. Белая свастика и красная кровь. Сожженные деревни и трупы повешенных на опаленных березах. Ночной марш-бросок. Сучок, хрустнувший под ногой в трех шагах от германского поста, и хрустящие в захвате позвонки караульного немецкого офицера… Залитая солнцем и счастьем Москва, высокое и звонкое небо победы. «Алька, это ты?» – «Илюша! Ты как? Ты – где?.. Ты хотел меня увидеть?» – «Не знаю. Наверно, нет. Я зря пришел сюда. Хотя нет… Вот, это мой командир, капитан… нет, уже три дня как майор Санаев!»
Пароход «Сталин», гортанные, изжеванные крики блатарей, блеск глаз и лязг ножей, страшная боль в сломанном запястье… Дотянуться… Достать до этой бычьей шеи!.. Глаза Лагина. «Я уверился, что ты не убивал». Горящий на горном серпантине перевернутый «Опель Кадет», тугое пламя и крики заживо сгорающих людей.
И снова – лицо Альки, в котором еще можно признать ту, прежнюю, девятнадцатилетнюю. Слова, поставившие точку. И ничего уже нельзя сделать.
Нужно найти в себе силы принять ту жизнь, которая выпала на твою долю. Какой бы она ни была. Нужно найти в себе силы, повторял про себя Илья и проводил рукой по мокрому лбу и мгновенно слипшимся волосам.
Вспомнились вдруг печальные стихи давно расстрелянного поэта, услышанные где-то на пересылке, настоящие и страшные, единственно верные стихи, которые читал какой-то сухой и старый прямой человек тридцати лет от роду, «Иван Иваныч». Его зарезали через два дня прямо у дверей столовой, а стихи все равно звучали:
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: «Я не люблю вас»,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю…[9]
– Всю жестокую, милую жизнь, – пробормотал Илья Каледин, стиснул челюсти, – жестокую, милую… Мы должны идти, Васильич. Ты прости, что так вышло, командир. Мы должны идти.
– Я могу помочь вам выехать из страны, – вдруг сказал Лагин. – Я все-таки считаю, что задолжал тебе, Илья. Ты можешь отказаться. В конце концов, тебе нечего терять. Не деньги же и не те ценности, которые Борис Леонидович прихватил тогда в Средней Азии!..
– А, вы и про это знаете… Не надо, – сказал Каледин. – Мы сами… Я очень прошу вас, Семен Андреевич: не помогайте мне больше. Никто. Дайте просто жить. Мы сами справимся. И не из таких передряг выбирались. Ну, а если нет – не судьба.
Он налил себе стакан водки и, выпив одним махом, вышел в коридор. За ним последовали Вишневецкий и снайпер Снежин. Санаев обвел глазами лица жены и Лагина и наконец выговорил:
– Что это такое было?
Затянувшуюся тишину нарушила Александра. Она облизнула сухие губы и ответила:
– Он заходил попрощаться.
Эпилог: СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ?
Париж, март 1953 года
Ты слышал? – спросил человек в светлом пальто и смерил взглядом группу девчонок в сопровождении двух парней, которые со смехом шли по мосту Мирабо. Человек оперся на перила и смотрел вниз, туда, где катилась Сена, туда, где в волнах плескались огни глаз старого пьяницы Аполлинера. – Ты слышал, Боря?