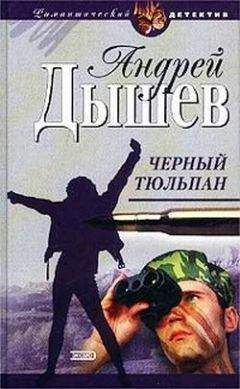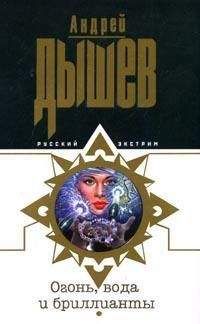– Куда едем? – спросил водитель.
Я кивнул на ворота контрольного пункта:
– Пока не знаю. Куда шеф поедет, туда и мы.
Водителю такой ответ не понравился. Он не мог сориентироваться и рассчитать, сколько бензина растратит и сколько взять с меня денег.
«Ниссан» выскочил из ворот, сверкнул в солнечных лучах и вырулил на магистраль.
– За ним!
Водитель что-то пробормотал по-таджикски и завел мотор. Он едва шевелился – или жара так на него подействовала, или он побаивался садиться на хвост иномарке.
– Побыстрее, – попросил я, видя, что «Ниссан» стремительно набирает скорость.
Водитель надавил на педаль акселератора с такой осторожностью, словно это была лапа любимой собаки.
– Это все? – удивился я.
– Старий машина, да? – ответил водитель и прибавил еще чуть-чуть.
Между нами и «Ниссаном» встали два «жигуленка». Я уже начал беспокоиться, что потеряю микроавтобус из виду.
– Эта трасса куда ведет? – спросил я.
– На Нурек, куда же еще!
Мы безнадежно отставали. «Ниссан» проскочил на желтый свет, перед нами вспыхнул красный, и водитель, конечно же, послушно притормозил. Я понял, что, прежде чем сесть в такси, надо было посмотреть на километраж пробега и возраст водителя.
Когда загорелся зеленый и мы тронулись с места, микроавтобуса уже нигде не было видно.
– Молодец, спасибо! – хлопнул я по плечу водителя. – Разворачивай назад. В гостиницу «Таджикистан».
* * *
Я сидел у себя в номере и, склонившись над журнальным столиком, рисовал пальму. Стройную, изящную пальму, членистый ствол которой выгибался дугой, а большие овальные ветви, заостренные внизу, как пики, фонтаном выбивались из верхушки ствола, словно копна нечесаных волос на голове хиппи. Правую ветку я нарисовал неправдоподобно огромной, и теперь она вместе со стволом образовала большую букву «Р».
Я кинул карандаш на стол и откинулся на спинку кресла. Не помню, деталей не помню. Зрительная память у меня хорошая, легко вспоминаю лица людей, с которыми встречался много лет назад, причем эпизодически. И все-таки глаза – не фотоаппарат. Стираются в памяти особенности шрифта, а это очень важно.
Снова взял карандаш, на глаз рассчитал ширину букв, чтобы слова уместились в одну строку на всю ширину листа, и едва заметными линиями набросал: «Российско-перуанский коммерческий союз «Гринперос». Отодвинул лист подальше от глаз, прищурился. Похоже, но не то. Те буковки дрожали, как если бы на них смотреть через разогретый тропический воздух.
Засечки, которые я накидал на буквы, сделали их похожими на стадо пьяных ежей, и пришлось все стирать резинкой. Попытался рисовать буквы волнистой линией, но получились вообще какие-то трудночитаемые аморфные пятна.
М-да, подумал я, художник из меня никудышный. Разорвал лист и кинул его на кровать. Потом ходил по комнате из угла в угол, пока не стемнело. Включил бра, достал из холодильника бутылку минералки, осушил ее залпом и снова сел в кресло.
Тут мой взгляд упал на обрывки бумаги. Я взял их, разложил по линии разрыва на столике, а затем слегка сдвинул в сторону каждую полоску бумаги… Буквы задрожали, словно в знойном мареве!
Я вытащил из тумбочки чистый лист бумаги и снова принялся рисовать пальму с гипертрофированной ветвью в виде буквы «Р». До полуночи, склонившись над столом, я рисовал логотип фирмы «Гринперос», и когда уже карандаш вываливался из моих рук, а глаза слипались от усталости, на листе бумаги появилось что-то похожее на логотип, украшающий договор, который мне показал Гурьев.
На отдельном листе я стал по памяти записывать текст договора. «Организация обязуется обеспечить специалиста всем необходимым для работы и отдыха в пределах нормы, которая устанавливается в зависимости от результатов труда… Специалист не вправе прерывать контракт по своему усмотрению, равно как и покидать пределы рабочей территории без ведома администрации, вести какую-либо переписку или иными способами связываться с лицами, не имеющими отношения к настоящему договору…»
Осталось найти адрес какой-нибудь организации, оказывающей полиграфические услуги. Я пересмотрел стопку местных газет, нашел то, что мне было надо, и обвел рекламный «кирпич» карандашом.
На сегодня все, подумал я, и, не раздеваясь, упал на кровать.
С утра я позвонил в строевой отдел штаба дивизии, но мне сказали, что приказ на увольнение уже подписан, выписку я могу забрать у дежурного по контрольно-пропускному пункту, но вот проездные документы будут готовы не раньше чем дня через три. Когда я попытался выяснить, чем вызвана эта волокита, женский голос коротко и грубо ответил мне:
– Когда будет готово, вас вызовут.
Я подумал немного, глядя на пикающую трубку, и набрал номер Локтева. На другом конце провода трубку долго не брали, наконец я услышал незнакомый голос:
– Слушаю!
– Мне полковника Локтева.
Молчание. Приглушенные голоса, кашель, шорох.
– А кто его спрашивает?
– Кирилл Вацура.
– Э-э-э, а по какому вопросу вы звоните?
– По личному.
– Обратитесь в отдел по воспитательной работе.
И короткие гудки.
В лифте я случайно услышал от офицеров штаба миротворческих сил дикую новость: вчера поздно вечером в своем кабинете застрелился полковник Локтев.
Я забыл, куда собирался идти, несколько минут топтался в фойе гостиницы, мешал людям, меня толкали в дверях, как колхозника с мешком картошки в метро в час пик. Локтев застрелился, думал я, а точнее, просто повторял эту фразу, прислушиваясь к своим чувствам. Он застрелился. Не захотел больше жить. Почему? Я виноват в этом? Совпадение, что это произошло сразу после нашего разговора?
В штаб дивизии меня не пропустили. На контрольном пункте я спросил о выписке из приказа о моем увольнении. Сержант долго шарил в пустых ящиках стола, потом хлопнул себя по лбу и вытащил выписку из-под стекла, которое лежало на столе под телефонами. Приказ на увольнение был подписан сегодняшним днем исполняющим обязанности командира дивизии полковником Локтевым. Я спрятал выписку в нагрудный карман и попытался пройти на территорию, но дежурный молча преградил мне путь и показал на выход. На «пятачке» перед штабом суетились офицеры, люди в штатском, милиционеры. Я видел из-за ограды, как вынесли носилки, покрытые простыней, закатили их в зеленый фургон медицинского «УАЗа». Машина развернулась, выехала через КПП и под вой сирены сопровождающей милицейской машины помчалась по улице.
Я брел к гостинице, стараясь в точности вспомнить последние слова, сказанные Локтевым вчера в кафе. После внезапной смерти человека именно к последним словам его относишься по-особенному, будто в них заложен некий мистический смысл. Сырье из приграничной зоны вывозят на военных грузовиках, мысленно повторял я слова Локтева, транзитом через Душанбе и в горы, в сторону Нурека… В военные самолеты наркотик пронести невозможно… Существует договоренность, в которой завязаны большие деньги и чины… Не надо кидать тень на дивизию…
Мне уже никогда не узнать, насколько искренне говорил об этом Локтев.
* * *
До госпиталя я доехал на троллейбусе, затем долго бродил по тенистым аллеям между корпусов, спрашивая у больных, одетых в единообразные пижамы, как пройти к моргу. Мой вопрос нагонял на людей суеверный страх, они пожимали плечами, отрицательно крутили головами и спешили отойти от меня. Странно, отчего люди так относятся к этому естественному для госпиталей и больниц заведению? Как вообще можно лечиться, не зная, куда будешь перевезен в случае чего?
В конце концов я сам нашел маленький скорбный домик с плоской крышей и окнами, замазанными известью. На ступеньках при входе сидел до пояса раздетый солдат, стругал палку и, увидев меня, спросил: «Чего надо?»
– Мне начальник назначил встречу.
– Сейчас спрошу, – делая мне одолжение, ответил солдат, поднялся на ноги и исчез в дверях, откуда струился слабый запах хлорки.
Вскоре ко мне вышел худой, лысеющий лейтенант с остатками черных лохматых волос над ушами – Эдик Бленский, которого я как-то видел в полку. Не вдаваясь в подробности нашей эпизодической встречи и стараясь не подчеркивать, что мы совсем не знакомы, я протянул руку, приветливо улыбнулся, как своему давнему приятелю.
– Привет! Что-то ты похудел.
Бленский, пожимая мне руку, силился вспомнить мое лицо, но это ему не удалось. Впрочем, он легко скрыл это, кивнул мне, приглашая войти. Мы прошли по коридору, где, по моему представлению, должны были валяться трупы, и свернули в открытую дверь кабинета.
Бленский сел за стол, застланный застиранной, в желтых пятнах, скатертью, на котором стоял лишь мутный стакан, полный карандашей с обломанными грифелями, водрузил на него локти, зевнул и спросил:
– Ну, как жизнь?
Ответ на этот вопрос, как он полагал, должен был помочь ему вспомнить меня.