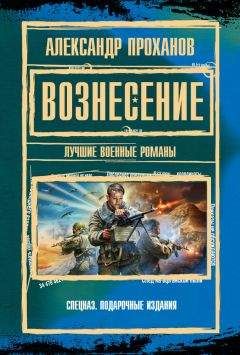В зале кругом слышались звяканье, возгласы, бульканье падающего в бокалы вина. Пиршество превращалось в мистерию поедания быка, которое символизировало бесконечность составных частей Вселенной. Расчлененная на части, пропущенная сквозь огонь, пронзенная ритуальным клинком, эта Вселенная принимала вид отсеченной бычьей губы. Плотного и шершавого языка. Коричневой, нежно хрустящей кожи. Гладкого, похожего на булыжник сердца. Белого, мягко-пахучего семенника. Медно-красной мякоти на синеватом реберном хряще. Душно-приторной, сладкой печени. Студенистого желтоватого костного мозга. Красного, наполненного жаркой кровью окорока. И когда утомленный жрец, в забрызганной жиром рубахе, с блестящей от пота грудью, в изнеможении, многократно поменяв перед ними тарелки, выкатил на стерильный фарфор выпученный бычий глаз, окаменело-черный, окруженный твердым, как электрический изолятор, белком, Белосельцев, моля о пощаде, поднял руки. Они с Валентиной жадно выпили по полному бокалу вина, расплатились и вышли. Видели, как мясники в клеенчатых фартуках окружили деревянный верстак, на котором высился полуобглоданный рогатый скелет быка, похожий на недостроенную лодку с ребрами торчащих шпангоутов.
На улице была тропическая ночь с колыханием пальм, катящимися в черноте водянистыми фарами, иероглифами разноцветных реклам, запахом бензина, табачного дыма и сладковатого тления. Утомленные и пресыщенные, они сидели в машине. Она устало положила голову ему на плечо.
– Этого быка, мой милый, нам хватит на всю долгую деревенскую зиму. Тебе не нужно будет охотиться на зайцев. Когда проголодаешься, подойду к тебе и скажу: «Вашему вниманию: бычья почка, правая, слабо прожаренная…» – и вытру тебе губы салфеткой.
– Мы могли себе позволить это излишество. Ведь мы прощаемся с континентом, и он дает нам прощальный ужин.
– Что еще континент покажет нам на прощание?
– Хочешь, пойдем в варьете. Где-то по пути я заметил рекламу с танцующими жар-птицами. Будем вспоминать тропических танцовщиц среди непроглядной русской зимы.
– Опять искушение монаха… Танцующие красотки…
Они медленно катили по улицам, высматривая среди реклам и освещенных щитов интересующее их заведение. И вдруг под колеса упало из темноты радужное, в изумрудных переливах, в фиолетовых кольцах и золотистых разводах перо. Они стояли у фасада, на котором загоралась и гасла неоновая женщина с распущенным павлиньим хвостом.
– После быка павлин. Нам так здесь понравится, милый, что никуда не уедем отсюда. – Она любовалась разноцветными вспышками, и глаза ее попеременно становились золотыми, зелеными, синими.
Они заплатили за вход. Привратник, отрывавший билеты, любезно осведомился:
– Могу я узнать, из какой страны приехали сеньор и сеньора?
– Это существенно? – спросил Белосельцев.
– Во время представления вам будет сделан подарок.
– Мы из Советского Союза, – сказал Белосельцев.
– Благодарю, сеньор, – поклонился привратник, провожая их в глубь помещения.
Они очутились в полутемном пространстве, где стояли уютные столики. Чуть в стороне невысокая, слабо освещенная, пустовала эстрада. Играла тихая ленивая музыка. За столиками негусто сидели посетители. Мерцало стекло, в редких светильниках клубился дым сигарет. Усаживая Валентину, Белосельцев успел разглядеть несколько военных в камуфляже, пивших из маленьких рюмок какой-то крепкий напиток. Поодаль сидела пожилая респектабельная чета: он – в красивом шелковом шарфе, прикрывавшем костлявую шею, она, седая, пышноволосая, с крепким, как клюв, носом, с золотыми серьгами и кольцами. Были другие люди, плохо различимые в сумерках, кто в пиджаках и галстуках, кто в легких рубахах и спортивных нательниках с эмблемами и нагрудными надписями.
К ним подошел служитель:
– Что-нибудь желаете заказать?
– Пепси, большую бутылку, – попросила Валентина.
– «Флор де Канья» со льдом, – добавил Белосельцев. – И фисташки.
Они сидели, утоляли жажду холодной шипучей пепси. Белосельцев подносил к губам тяжелый стакан, в котором позвякивал лед и сочился, обжигал язык, крепчайших ром. Было приятно сидеть в сумерках, пьянея, слушая ленивый, тягучий блюз, чувствуя себя в невесомости, в безвоздушном пространстве между двумя половинами жизни. Той, что уже завершилась, но еще витала вокруг, как голубой сигаретный дым. И той, что еще не начиналась, пленительно манила издалека, пьянила сладостными предчувствиями.
– Ты рассказал мне, милый, про книгу, которую мечтаешь написать. – Валентина поставила стакан с тонкой пластмассовой трубочкой, погруженной в шипящий напиток и кубики талого льда. – Книгу о разведчике, которого Господь посылает на задание разгадать смысл жизни. Я не умею писать книги, и мне не разгадать смысл жизни. Но иногда, на грани яви и сна, перед тем как уснуть, вдруг что-то во мне раскрывается, какой-то занавес, и я начинаю все понимать.
– Что понимать?
– Этого не скажешь словами. Понимаю, что живу. Что непременно умру. Что эта смерть будет не окончательной, не навечно. За ней моя жизнь продолжится, и там, в другой жизни, будут все отгадки, все самые главные, поджидающие тебя события, по которым здесь лишь слабо томится душа.
– Значит, здесь не найти отгадки?
– Здесь многое можно понять.
– И что это «многое»?
– Нас соединила с тобой судьба. И это не случайно. Что-то соединилось там, в невидимой предстоящей нам жизни, что-то огромное, важное, цветущее. И поэтому ты сел в один со мной самолет, я подошла к тебе на танцплощадке, ты вернулся ко мне из Сан-Педро, из этой страшной красной зари, и мы оказались в океане у плывущего зеленого дерева. Пока мы будем вместе, невидимое, огромное, чудное, поджидающее нас в другой жизни будет цвести, хранить от напастей множество людей, живущих на этой земле. Быть может, вон тех военных за соседним столиком, которые пьют вино и завтра отправятся на фронт. Или вон тех двоих, он – в шарфе, она – с голубыми седоватыми волосами, у которых, наверное, нет детей, и они очень друг к другу привязаны… Но стоит нам разлучиться, как там, в невидимой жизни, что-то сломается, рухнет какой-то свод, какая-то крепь, и здесь, на земле, наступит огромное горе. Может, случится большая война. Или упадет на землю комета. Или рухнет храм Василия Блаженного. Или растают все льды и зальют половину планеты. Мы должны это знать и быть вместе. Беречь друг друга. Там, в деревне, куда ты меня повезешь, мы станем не просто жить, а за всеми лесами, снегами будем хранить благодать и покой земли.
– Я это знаю, любимая. – Он положил свою руку на ее тонкие пальцы, и они сидели, слушая сладостную тягучую музыку, изливавшуюся из невидимого ковша. Из золотого изогнутого саксофона, прижатого к фиолетовым негритянским губам.
Саксофон смолк. Наступила минута тишины. А потом вдруг ударила слепящая, яростная музыка, брызгающая и сверкающая, словно солнечный фонтан. Эстрада озарилась. Вдоль нее по бордюру, догоняя друг друга, побежали мигающие радостные огоньки. Вспыхнули прожектора. В их перекрестье, в круглое озерцо яркого света ступил блестящими башмаками вылетевший из-за эстрады конферансье, маленький, в черном фраке, в галстуке-бабочке, в круглом комичном котелке, с огромными белоснежными манжетами, в которых сверкали фальшивые изумруды. Это был радостный желтолицый китаец с черными зачесанными височками и улыбающимся ртом, где было тесно от налезавших один на другой зубов. Его встретили аплодисментами, радостными свистками, а китаец раскланивался во все стороны, снимал и надевал котелок:
– Добрый вечер, сеньоры!.. Добрый вечер!.. Надеюсь, в этот вечер, счастливый для вас, вы станете еще счастливей!.. Молодой станет еще моложе!.. Богатый еще богаче!.. Влюбленный еще влюбленней!.. – Он вертелся, забавно кривлялся, источал жизнелюбие, окруженный электрическими светляками, топтался в луже света, расплескивая лакированными штиблетами яркие брызги, которые тут же превращались в музыку, в искрящиеся вспышки звука, и все тянулись к нему, хлопали и свистели.
– Мы рады нашим гостям!.. Рады тем, кто приходит к нам каждый вечер!.. И тем, кто приходит каждую неделю!.. И тем, кто заглядывает сюда только раз в год!.. Особенно мы рады гостям, которые здесь впервые… Обещаю, они почувствуют, что такое настоящий праздник, настоящая музыка, настоящая красота!.. – Он выделывал ногами кренделя, принимался тарабанить чечетку, вертелся волчком на одном каблуке, похлопывал себя по впалой груди и бедрам. – Мы рады видеть героических военных, которые, рискуя жизнью, защищают нас от проклятых гринго, заставляют уважать никарагуанскую шляпу Сандино!.. – Китаец содрал с себя котелок, изобразил указательным и большим пальцами взведенный курок, выстрелил куда-то вверх, а потом протянул маленькие ручки с изумрудными запонками к сидящим за столиком военным: – Танец для вас, компаньерос!.. – И военные захлопали ему благодарно.