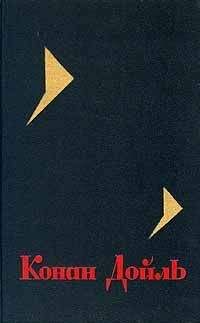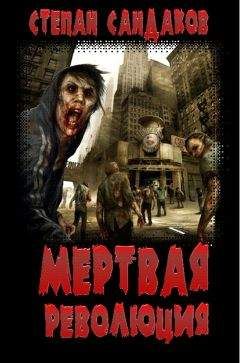Макарец, впечатленный моей речью, медленно помотал головой из стороны в сторону. Потом подумал и на словах добавил:
— Я на вас докладную напишу.
— Писать научись, андроид, — я сплюнул и отвернулся. Генаха тоже.
Макарец еще с минуту постоял, уныло наблюдая, как наглый Кавалерист затяжка за затяжкой поглощает сигарету, потом развернулся и побрел прочь. Я подмигнул Генахе:
— Ловко мы его уделали?
— Ловко ты его уделал, — поправил он и растоптал окурок. — Вот чего, Мишок, у тебя никогда не кончится — так это слов.
— Ну, — я зарделся от незаслуженной похвалы. — Должно же у человека быть хоть чего-нибудь много. У меня нет денег, нет совести, даже жены с малыми дитями — и то нет. А вообще, Генаха, это у меня от недосыпания словесный понос случился. Это у меня всегда так. Вот ты становишься нервный и раздражительный, как кошка, которой хочется, да не с кем. А у меня недержание речи происходит. Ты, кстати, чего домой-то не едешь?
— Я в бухгалтерии был, — Генаха хлопнул себя по карману. — Послезавтра в отпуск ухожу.
Хороший у нас таксопарк. Единственный в городе, где таксеров в отпуска выгоняют. Так что нам пока можно было гордиться, хотя ходили упорные слухи, что лафа скоро закончится — директор заразился капитализмом по самые гланды и решил податься в безжалостные эксплуататоры. Так что Генаха, получается, был одним из последних счастливчиков. Успел, так сказать, поймать момент. И все равно я удивился:
— Почему зимой? — удивился я. — Ценитель лыж и конькобежного спорта? А как же лошади?
— Пошел в жопу, — очень откровенно сказал Генаха. — У меня, Мишок, тоже, между прочим, ни жены, ни детей, ни мамы с папой. Так что мне без разницы, когда в отпуск уходить. Смотаюсь на Черное море, там сейчас народу нет. Отдохну.
— Тоже верно, — я вздохнул. Мне Черное море никогда даже не снилось. Я, как человек более приземленный, все отпуска проводил на рыбалке. — Ты Четырехглазого не видел? — Четыре Глаза был его сменщиком, и кому, как не Генахе, знать — появлялся ли в гараже наш многоокулярный друг.
— Нет! — Кавалерист удивленно посмотрел на меня. — Ты че? Он же сегодня в ночную заступает. Я машину на профилактику поставил, — и он махнул рукой куда-то в неопределенном направлении.
— Плохо, — еще раз вздохнул я.
— А что случилось?
— Еще не знаю.
— А зачем тебе тогда Четыре Глаза?
— Чтобы ничего не случилось.
— Не понимаю.
— Я тоже пока не очень понимаю, — признался я. Диалог вышел, признаться, сумбурный, и, не будь я в теме, точно свихнулся бы. Представляю, что за каша получилась в голове у Генахи. — Только боюсь, что-то все-таки случилось. Времени уже четверть девятого, а мы договаривались на восемь. Совсем плохо.
— Да в чем дело? — Кавалерист зло вытаращился на меня. Переживал, получается, за сменщика. И жаждал ясности. Знал бы он, как я ее жаждал!
— Не знаю я, Генаха. Крест на пузо — не знаю. Выясню что-нибудь — обязательно скажу.
Кавалерист обиженно заткнулся. Наверное, думал, что я скрываю от него какую-нибудь важную государственную тайну. Это было не так, но объяснить, что к чему, я был не в настроении. Так мы и стояли, надутые, как мыши на крупу. Даже мужик с агитплаката уже не радовал своим сходством с незабвенной памяти бровеносным генсеком.
Осияв пространственно-временной континуум своим прибалтийским лоском, появился мой сменщик Ян. В прохладную атмосферу нашего с Генахой общества он вписался вполне. Потому как человек-айсберг. Я бы даже сказал — человек-Антарктида. Принципиально невозмутим. Нетороплив, расчетлив, последователен. Я со счета сбился, сколько раз его вызывали на ковер к директору за опоздания, но Литовец очень последовательно и расчетливо продолжал опаздывать. Директор, человек снаружи очень строгий, но внутри редкостная душка, в итоге махнул рукой. Тем более что на качестве работы эти поздние приходы никак не отражались. Короче, смерть от душевных переживаний Литовцу явно не грозила.
— Привет аборигенам, — сказал Ян, подойдя к нам.
— О, — сказал Генаха. — Хоть один нормальный человек нарисовался. А то Мишок с Макарецом мне уже все мозги высосали.
— А Мишок-то что сделал? — спросил Литовец. Упоминание Макареца его ни капли не удивило — сосание мозгов по утрам, вечерам и вообще в любое время дня и ночи было особой приметой завгара.
— Задолбал он меня, вот что, — пояснил Кавалерист. — У него рот не закрывается. Уже полчаса стоит здесь и несет какую-то херню. Говорит — словесный понос. А у меня в голове уже конкретный бурелом.
— У Генахи новая теория, — пояснил я. — Типа, если посмотреть сбоку, то сверху будет видно, что снизу я получу по языку из-за своей головы. Ты чего-нибудь понимаешь?
— Нет, — честно ответил Ян.
— Я тоже. Хреновый, Генаха, из тебя Эйнштейн. Зря ты в восьмой класс не пошел.
— Я бы пошел, — возразил Кавалерист, — да меня не взяли. И вообще я сейчас из-за тебя шизой покроюсь. Слушай, Литовец, забери меня отсюда.
— Легко, — сказал Ян. Потом повернулся ко мне и добавил: — Ты тоже едешь?
— Ну, натурально, — я важно кивнул.
— Тогда подождите, я к Макарецу сгоняю.
И умчался. А я повернулся к Генахе и победно ухмыльнулся:
— Ты от меня так просто не ускачешь. Ян человек хороший, но он в первую голову мой напарник. Так что готовься.
— К чему? К тому, что ты меня до смерти заговоришь? Так я этого уже лет семь жду. Думаю, что однажды дождусь. Если прежде тебе голову не откручу.
— Зверь, а не человек, — хохотнул я. — Ладно, не боись. Я через слово разговаривать буду. В два раза дольше протянешь.
Сзади посигналили. Мы синхронно развернулись и направились к выходу. Там Генаха забрался в машину, а я пошел открывать ворота. Когда «Волга» выехала, проделал ту же операцию в обратном порядке и присоединился к Генахе. Он слегка потеснился, но на всякий случай предупредил:
— Мишок, если что — я тебе глаз высосу и не подавлюсь.
— Лишь бы тебе на пользу пошло, — сказал я.
— Чего это он? — спросил Ян, наруливая от гаражей.
— Седлом спину натерло, — я пожал плечами. — Или подковы новые жмут. Он все утро такой.
— Мужики! — взмолился Генаха. — С вами, конечно, весело, но я спать хочу. Говорите про меня что хотите, только на счет «поболтать» не приставайте, хорошо?
— Спи спокойно, друг, товарищ и лошадь! — я торжественно хлопнул его по плечу.
— Полный трындец! — Генаха тяжело вздохнул, поудобнее устроился на седушке и прикрыл глаза. Может, и правда заснул, а может, притворялся, чтобы мы не доставали его.
Некоторое время в салоне царила тишина. До тех пор, пока Ян не вывел машину за пределы промзоны. Здесь он отыскал меня глазами в зеркальце и спросил:
— Кого первого?
Вопрос, откровенно говоря, был непраздный. Он содержал в себе целую гамму душевных переживаний, терзавших Литовца, пока тот решал, кому из друзей отдать предпочтение. Потому что и Генаха, и я жили в получасе езды от таксопарка, но Генаха — на севере, а я — на юго-западе. И, не выдержав напряженной борьбы между собственными полушариями, Ян позорно спасовал, переложив ответственность за принятие решения на меня. Сволочь.
Я, однако, долго думать не стал. Кавалерист так увлеченно сопел носом, что без подсказок было ясно — он сейчас нуждается в теплой кровати гораздо больше, чем я. Мне же, слегка поспавшему и даже встряхнувшемуся в моральной стычке с Макарецом, было относительно неплохо — нервозная бодрость, говорливость и прочие симптомы легкого перенапряжения организма. Я знал, что через час-полтора наступит реакция, и я засну прямо там, где буду находиться на тот момент. Но ведь час-полтора-то еще продержусь. Поэтому невыгодное для меня — в смысле порядка очередности — решение было принято легко и без колебаний:
— А давай Генаху сперва отвезем. Это он только с виду конь. А на деле даже на пони не тянет.
Ян, чьи душевные страдания я прекратил одной фразой, пустил машину в нужном направлении и засвистел что-то непонятное. Это было редкостной удачей для любого натуралиста — видеть его в таком состоянии. Обычно он свистлявостью не отличался. Чистый бамбук. Такая вот особенность загадочной прибалтийской души. Неприметный такой бамбук, затерявшийся в необъятных бамбуковых джунглях. Даже если отыщешь — ничего интересного в нем не найдешь. Строгий и безупречный, хоть и непонятный. Ну, неэмоциональное растеньице. Правда, порой он превращался в цветущий бамбук, но это случалось редко. Наверное, когда подарил какой-нибудь барышне свою невинность. Возможно, в день свадьбы. Очень может быть, когда жена наградила его первым сыном. Короче, цвел только в исключительных случаях. По пальцам пересчитать можно. Чуть чаще становился таким бамбуком, на который в древности богдыханы голым задом сажали преступников. Что с ними делалось посредством прорастания быстрорастущего деревца через прямую кишку в остальной организм, объяснять не нужно. Ян и не объяснял. Просто прорастал. Но в основном все же оставался обычным человекобамбуком. Неприметным и бесстрастным.