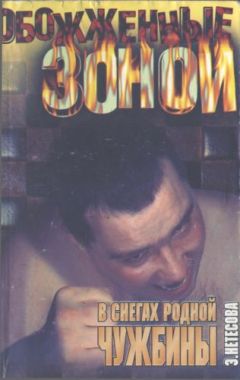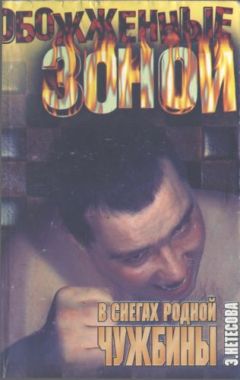Борька сам привел Жмота в карьер, где почерневшие от угольной пыли зэки долбили кирками и ломами неподатливые пласты. Куски, брызги, глыбы угля сыпались под ноги. Никто из них уже не обращал внимания на боль от ушибов, не оглянулся на нового зэка.
Кто они, за что попали сюда, в ад, созданный своими руками, они давно забыли. Не до того. Прошлое умерло в памяти. Да и было ли оно? Прошлое лишь тяжкий груз. А память отнимает силы. Они тут куда нужнее самой памяти. Ведь даже здесь, уже не зная зачем, люди хотели выжить. Себе ли на смех или судьбе наперекор? Но это лучше, чем сгореть за карьером, неподалеку, неярким факелом, комком плоти, облитой бензином. Здесь даже пепел не закапывали. И зэки, видя черный дым за карьером, понимали, что кто-то не дожил, ослаб. На некоторое время останется без дела чья-то лопата или лом. Но ненадолго. Взамен ушедшего скоро приводили нового. И тоже без имени и прошлого. Лишь номер. Его ненадолго заносил в тетрадь бригадир.
Беглецов тут ловили быстро. Зимой — по черным следам на белом снегу. Угольная пыль въедалась в зэков с первых же минут в карьере так прочно, что следовала за беглецами слишком далеко. Снег здесь таял лишь на два месяца. И тогда карьер окружала зыбкая марь. Она не щадила никого. Тучи комаров, голодное зверье не ждали последнего вздоха уставшего человека и набрасывались на него, пока не остыла в жилах кровь. Что там охрана! Она возвращалась в карьер, зная, что там — хуже расстрела, добьет уголек любого. Медленная смерть всегда страшнее. Зэки здесь не знали бараков. Жили в выработках. Месяцами. Вшивели, простывали. Без баланды, кипятка. А когда поднималась пурга, то и без хлеба. Не могла привезти его машина из зоны. И тогда студеными ночами добивали зэки куском угля тех, кто ослаб вконец. Растаскивали, пока отвернулась охрана, по частям недавнего собрата.
Зачем добру пропадать? Ведь жизни оставалось совсем ненадолго. Сожгут охранники его. Без пользы для других. Тут же чья-то смерть поддержит жизнь других. Тех, кто еще может двигаться. Кости и все несъедобное заваливали глыбами угля. Либо подкладывали под них: вроде ненароком попал под обвал человек.
Кого вчера разнесли в куски? Фартового или стопорилу, а может, бывшего генерала? Никто не знал и не спрашивал. Тут поминок не справляли. К чему? В желудках озверевших зэков все переваривались одинаково.
— Отваливай в карьер! — подтолкнул Жмота бригадир.
— Он, гад, Юрку убил. Спицей в горло. Поставь его, где жизни не обрадуется, — попросил Борис.
— Там везде одинаково. Через пару недель облезлому сявке, тому, что в бараке у параши канает, завидовать станет. Это я тебе правду говорю. У нас все обламываются.
— Этот в президентах зоны был. Может, и тут захочет бугрить? — не поверилось Борису.
— А ты сам взгляни! — усмехнувшись, предложил охранник.
Борис подошел поближе, глянул вниз. В черном карьере муравьями кишели зэки.
С тачками, носилками, лопатами, ломами сновали по какому-то своему порядку. В стенах котлована будто пещеры вырублены. Их много. Одни, опустевшие, занесены снегом. Прорубившие их давно в мире ином. Живые свою нору прорубают. Боясь участи прежних жильцов, не занимают опустевшие ниши. На жизнь надеются.
А вон и Жмот. Кого-то за локоть придержал. Спросил или сказал что-то? Тот слушать не стал. Знает: не сделает норму, получить пайку хлеба надежды нет. А ее тут выполнить ох и мудрено!
Жмот подошел к зэку, толкавшему наверх тачку с углем. Тот не оглянулся. Некогда. Что из того, если президент обратился? Бывший… Здесь, в карьере, он никто. Там, в зоне, он что-то значил. А здесь главное — пайка хлеба. Она важнее всего. Она — жизнь. Президент не накормит. Сам сдохнет, если от своей пайки не отломит, не поделится. Самим не хватает.
Вот один рассвирепел. Слишком грубо к нему президент обратился. Замахнулся кулаком. Его поддержали, обложили Жмота матом. И через полчаса тот взялся вкалывать, как и все; понял, тут на холяву хамовку не отвалят.
В этот день он не выполнил норму и остался без жратвы.
— Хочешь цирк посмотреть? — предложили Борису охранники.
Подведя к карьеру, включили все прожекторы. И вмиг рассыпалась куча зэков, избивавшая кого-то.
— Твоего Жмота трамбовали. По-свойски. Хотел пайку выдрать. Не удалось. Вступились. Тут за хлеб любого сожрут. Вприкуску. Если б чуть промедлили, его бы убить успели. Но… Нет! Такое в награду! Пусть помучается! — потешалась охрана.
Жмот занял чью-то выработку, выбросил из нее снег. Над ним откровенно смеялись зэки.
Борис увидел, как вокруг карьера с рычаньем ходили сторожевые собаки. Они караулили каждый шаг тех, кого ссылали сюда из пяти номерных зон, пожалев даже пулю. Каждый день сюда прибывали десятки тех, кому вживе предстояло не только увидеть, понять, а и прочувствовать на собственной шкуре, что такое ад.
Борис видел, сколь усиленно охраняется карьер, и все же пришел сюда ночью проверить, не сбежал ли Жмот. Но нет… Подошвы его сапог торчали из выработки. Грузное тело сжалось от холода в грязный ком, вздрагивало, ежилось. От света прожекторов с непривычки не мог уснуть. Другие спали, вскрикивая во сне, ругаясь и шепча имена забытых родных и друзей, шмар и кентов. Где они теперь?
Стонут зэки, цепляясь онемелыми от стужи пальцами в черный уголь. Что чернее — жизнь или смерть? Пожалуй, в могиле было бы удобнее и теплее… Есть ли на свете наказание худшее, чем это? Вряд ли. Тут люди зверели быстрее, чем ожидалось. Какие там законы, фартовые иль человечьи! Один закон здесь признавался, звериный: выживает, кто сильнее.
Но Жмот не вписался в стаю. Она уже сжилась. Законы зоны здесь не вспоминались. А потому отнимать заработанную пайку не позволялось никому.
Лишь через три дня получил он хлеб, почти такой же черный и жесткий, как уголь в карьере. Жмот сгрыз его сразу. Другие растягивали это удовольствие до глубокой ночи. Они сосали хлеб, заталкивая маленькими кусочками за щеку либо под язык.
Через неделю недавний президент заметно сдал.
— Послушай, Борис, у меня тут чахоточные завелись. Кровью харкают. Боюсь, чтобы других не заразили. Сдохнут многие. Сразу. А кто в карьере вламывать будет? Вот мы и хотим избавиться от них. Уже договорились вернуть их в зону, в больничку. Там подлечат. И выпустят в барак.
— Зачем? Чтобы здоровых заразили?
— Пойми, они там нужней. Поверь, их рассказы о карьере многим мозги вправят. Лучше шизо подействуют. Наполохают фартовых до обморока. И, чтоб сюда не попасть, станут в зоне вламывать. Так ваш начальник зоны решил — принять их обратно, вместо плакатов, живая наглядная агитация. Мы их в расход пустить можем. Но из зоны сказали, что пусть пугалом послужат. Ох и хитер ваш Тихомиров! — удивлялся старший охранник карьера.
— А Жмот?
— Куда он денется отсюда? Считай, что спекся фартовый. Теперь уже за все с лихвой получит. А ты уведи больных. Тихомиров ваш так распорядился. И чем скорее, тем лучше. Двоих заберешь.
На следующий день, едва рассвело, крытый «воронок» выехал с территории карьера, увозя запертых на все запоры в железной утробе двоих заключенных, кашляющих всей требухой.
— Куда везешь, служивый? — спросил один из них перед отправкой.
— В расход! Куда ж еще? Чтоб зверюги за карьером чахоткой не заразились. Подальше отсюда! — ответил за охранника второй зэк.
— В зону! На лечение! — ответил Борис. И оба зэка осмелели. Им не верилось в чудо. Ноги вмиг отказали. В глазах у одного сверкнули слезы:
— Темнишь? Кому нужны? Теперь нас лишь «маслинами» лечить станут. Шустро и верняк, — не поверили они.
— Я темню? Какой мне толк с того? Давайте живо! Пока начальник зоны не передумал! — поторапливал Борис.
— Ну, Пан, фортуна пофартила! — услышал охранник и вздрогнул.
— Влезай, Медведь! — словно обухом ударили воспоминания.
«О! Если б знал, кого мне доведется встретить? Увозить их в зону, чтоб выжили? За что такое наказанье? Уж лучше б в карьере они сдохли, без напоминаний о себе! Как я их не узнал? Да и они не вспомнят меня теперь. А может, хлопнуть их по дороге, в распадке? Не очень удивятся, особо если напомню о себе?» — подумалось Борису. Но он тут же отогнал эту мысль. И, оглянувшись в кузов «воронка», увидел через зарешеченное окно два жалких существа в грязных лохмотьях. В их глазах и лицах давно умерло прошлое. Тенью от него остались клички. Ведь имена давно забыты. Они сами выбросили их из памяти, живя законами зверья. «А с ними какие счеты?» — подумал Борис и отвернулся от взглядов зэков, все еще не веривших в свое счастье.
А перед глазами Бориса встали лица сестер и братьев, единственного в жизни друга — Сашки Коломийца…
«Нет! Не могу! Убью гадов!» — дрожали руки, сжимавшие автомат, а глаза уже искали, где можно было бы расстрелять обоих. Но… Водитель не смолчит, доложит Тихомирову — и тогда что?